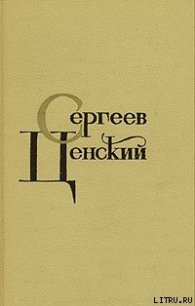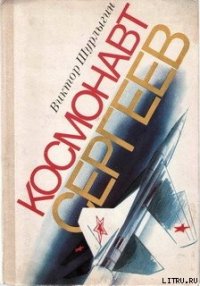Севастопольская страда. Том 2 - Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (прочитать книгу txt) 📗
VI
Евпатория, получившая это греческое имя в силу мечты Екатерины и Потемкина создать из Крыма дорогу в Константинополь, называлась у татар Гезлев; конечно, потемкинские солдаты очень скоро переделали это имя по созвучию в понятный им Козлов, и на берегу их силами начали строиться просторные двух-трехэтажные каменные дома для разных учреждений. Остальной же город не менял своего восточного характера, и в нем оставались все те же запутанные, узенькие, фантастически кривые улички, низенькие домишки под черепицей, дудочки минаретов.
Уже в первые дни после занятия города интервентами в нем поселился в качестве коменданта турецкий паша, выдававший себя за потомка крымских Гиреев, и принялся составлять и рассылать по окрестным татарским аулам прокламации, призывая татар переходить со всей своей движимостью в город.
Прокламации эти имели успех, особенно после Алминского боя; ушло в Евпаторию до тридцати тысяч татар, которые пригнали до двухсот тысяч голов скота и привезли двадцать тысяч четвертей пшеницы, создав этим большое подспорье армиям интервентов.
Первоначальный гарнизон города, состоявший всего из нескольких рот французов и англичан, значительно был усилен за счет спешно обученных ими молодых татар, из которых была составлена пешая и конная милиция; татары же употреблялись и для обширных земляных работ по укреплению города.
Возможно, что не представило бы большого труда захватить Евпаторию гораздо раньше, — например, в декабре, но теперь в ней думали уже не о защите, а о нападении на русский тыл, и такую именно задачу должен был осуществить корпус Омер-паши.
Теперь гарнизон Евпатории почти вдвое превосходил по числу восемнадцатитысячный отряд Хрулева, и если на укреплениях стояло всего только тридцать четыре орудия и пять ракетных станков против двадцати четырех тяжелых и семидесяти шести легких орудий Хрулева, то на судах, защищавших город, было вполне достаточно мортир и пушек крупных калибров, с которыми не могла бы состязаться русская артиллерия.
Дезертир-улан сделал свое дело: штурма в Евпатории ждали и к нему были готовы. И все-таки около пятисот человек отряженных Хрулевым рабочих, беспрепятственно действуя всю ночь всего в пятистах метрах от укреплений, выкопали в подмерзшей, но вполне податливой земле и эполементы для ста орудий и ложементы впереди их для штуцерников от Азовского полка и казаков; так что к пяти часам утра были подвезены сюда и бесшумно заняли свои места орудия и зарядные ящики. И как только начал брезжить утренний свет, с укреплений увидели, что русские уже обложили город тесным полукольцом.
Тогда началась канонада.
Начали ее оттуда, из укреплений, потому что туда прискакали испуганные татары пикета, стоявшего на кургане: на этот курган и на соседнее с ним кладбище двигались, становясь все виднее, плотней, осязательнее, русские колонны. Это были: батальон греков, разделенный на два отряда, батальон азовцев и четыре сотни казаков; вел же их сам Хрулев.
Он успел уже обскакать всю линию и оценить ее хозяйским глазом, насколько это возможно было перед зарею, и за центр свой, как и за правый фланг, был спокоен, — там дело было в надежных руках, а полковник Шейдеман, ведавший действиями всей артиллерии, даже восхитил его распорядительностью и хладнокровием, установив в такой короткий срок все батареи. Правда, он был его ученик, и другого он от него не ждал.
Он не сомневался в том, что артиллеристы себя покажут в лучшем виде, а пехотные полки дружным напором в какие-нибудь полчаса займут укрепления, взорванные и разбитые снарядами; но левый фланг его казался ему самым важным: именно отсюда благодаря естественным прикрытиям скорее можно было подобраться ко рву и валу и потом броситься на штурм, дав этим сигнал к общей атаке; отсюда же, с кургана, как с самой высокой точки на местности, решил он руководить всем боем.
Та минута огромной в его жизни важности, минута, к которой неусыпно и неустанно несколько суток готовился он сам и готовил всех около себя, наконец, наступила торжественно: гулко ударили первые пушки, задрожал около воздух, потянуло пороховым дымом, и как будто даже сразу яснее, отчетливее стало кругом, и на кургане бросились в глаза яичная скорлупа, оставленная тут татарским пикетом, и клочок полувтоптанной в землю бумаги.
Выстрелы раздавались все чаще, чаще. Хрулев жадно следил за разрывами русских снарядов там, на укреплениях, когда это позволял то подымавшийся клубами вверх, то оседавший дым…
— Та-ак!.. Так-так! — бормотал он, поворачивая голову в неизменной папахе то к одному, то к другому из своих штабных.
Накануне его цирюльник улучил все-таки момент сбрить с его подбородка и щек наросшую черную щетину, и теперь щеки его рдели от возбуждения, и штабные его им искренне любовались: он казался им явным центром всего этого, пока еще только орудийного и ружейного, боя, гремевшего кругом, — от него бесчисленными радиусами исходила энергия, начавшая и питающая бой.
Но сам Хрулев с каждой минутой все сильнее ощущал, что им овладевает дремота. Он удивленно вздергивал плечами, стараясь ее сбросить, он излишне часто поворачивал голову вправо и влево, желая самого себя убедить в том, что эта дремота — какая-то досадная случайность, наваждение, а между тем верхние веки его тяжелели, тяжелели, опускались…
Раздался гулкий взрыв там где-то, в укреплениях…
— Ага! — вскрикнул Хрулев. — Так их, мерзавцев! Лупи!.. Пороховой погребок взорвали! — обратился он к флигель-адъютанту Волкову.
Волков что-то ответил, чего не расслышал за гулом орудий Хрулев.
О том, чтобы роты волонтеров-греков начинали наступление с первыми же выстрелами из орудий, было в диспозиции, и теперь Хрулев наблюдал, как они двинулись. Впереди каждой роты ехал верхом капитан. Эти пять капитанов точно соревновались между собою в молодцеватости, так лихо они держались на конях и так размахивали своими кривыми, турецкого изделия саблями.
— Молодцы греки! — кричал он в их сторону, точно могли они его расслышать. — Вы посмотрите сейчас, какая у них тактика! — обращался он то к Волкову, то к Цитовичу.
Удивляя между тем и своего батальонного командира Панаева, греки быстро рассыпались, размыкая ряды, и шли вперед, совсем оторвавшись от локтей товарищей, широким и свободным шагом! Свои карабины сняли они из-за спин только тогда, когда подошли к валу на ружейный выстрел, когда стала их доставать и орудийная картечь с укрепления и начали залетать в их ряды круглые турецкие пули.
Тогда части их рот вдруг падали на землю, как подстреленные, и отсюда, прикрывая себя какими-нибудь выступами, камнями, кочками, открывали стрельбу сами, в то время как другие части рот быстро бежали вперед, чтобы также упасть всем сразу и открыть огонь, когда начинали в свою очередь перебегать первые.
Это был тот самый рассыпной строй, который ввели в русской армии только после Крымской войны.
Вот заметил Хрулев, как один из капитанов-греков неловко сполз с коня головою вниз.
— Эх, подбили беднягу! — качнул он головою, но тут же заметил и за своею головой что-то странное: она свешивалась ниже, ниже, ниже… он подбросил ее снова с трудом и, ожесточась, начал тереть себе уши, вспомнив о том, что это будто бы помогает от приступов дремоты.
Между тем привычное ухо артиллериста давало знать Хрулеву, что над его головой высоко пролетают крупные снаряды. Они посылались с моря, с парохода союзников. Иногда там, на море, показывались мачты двух пароходов, — остальное скрывалось в ватно-белом дыму…
Утренний ветер нес с собою резкий холод, и Хрулев запахивал свою бурку, но, замечая, что так ему непобедимо хотелось сомкнуть глаза, распахивался снова. Холод оживлял тело, сбрасывал коварную скованность, которая овладевала уже и спиной его, подавая ее вперед, к луке седла, так что был такой момент, когда уж не он Волкову, а Волков ему крикнул:
— Еще один погреб взорвали наши!
— Ага! Да! Здорово! — машинально отозвался Хрулев и затеребил свои уши, пропустившие такой успех молодцов-наводчиков.