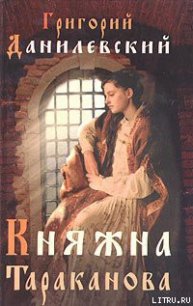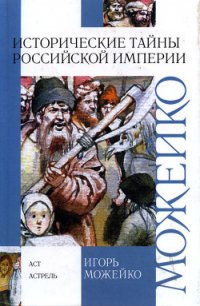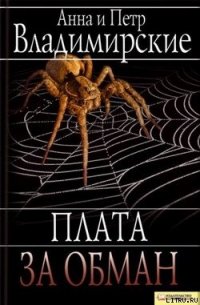Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Можно себе представить, как изумился граф лимбургский, когда однажды его милая княжна ему, скучавшему от неудач в денежных делах и запутанности своих счетов, сказала, сопровождая слова свои очаровательной улыбкой:
— Ты говорил, друг мой, что очень бы хотел выкупить права на совместное владение Оберштейном у графа трирского, но стесняешься в средствах для этого выкупа. Вот мне поверенный моего дядюшки прислал некоторую сумму; возьми её и сделай из неё то, что найдёшь полезным.
Граф совершенно растерялся перед этими словами своей очаровательницы. Кроме того, что они выводили его из затруднительного денежного положения и оканчивали дело, переговоры по которому тянулись так долго, а когда пришли к концу, то встретили новые затруднения в его безденежье, — эти слова указывали на бескорыстную преданность ему любимой им особы, её веру в него и самоотрицание ради его спокойствия. Он не находил слов, чем и как доказать свою благодарность и своё поклонение перед её великодушием, и действительно, Али-Эметэ рассчитала верно: выкупив Оберштейн, он записал его на её имя в пожизненное владение.
— Это будет твоё приданое при выходе за меня замуж, — сказал он.
— К чему это, мой друг, — ответила Али-Эметэ. — Я надеюсь, что посылки от дядюшки будут повторяться; да и отдадут же, полагаю, и моё наследство. Только мне нужно будет на короткое время тебя оставить и съездить по своим делам в Париж и Венецию... Полно, полно, не надолго! — прибавила она, заметив, что граф побледнел. — И я еду ведь не сейчас же; мы обдумаем, как сделать, чтобы как можно менее быть врозь; ведь мы с тобой нераздельные...
Однако же, несмотря на эту нежность, частые приезды из Мосбаха Доманского и уединённые прогулки с ним Али-Эметэ начали в большей или меньшей степени тревожить графа.
Он видел, что Доманский был красавец, был ловок, умён... Правда, общественное положение его было ничтожно; бедный шляхтич, на службе богатого магната, не может сравняться с ним, владетельным принцем... Но эти женщины часто не смотрят на общественное положение, и весьма легко может быть... Это «может быть» мучило его, росло с каждым днём, особливо когда он сравнивал свою отяжелевшую уже фигуру и обрюзглое лицо с стройностью и свежестью Доманского. Он не выдержал и свои сомнения передал Али-Эметэ.
— Ах, Боже мой, не ревнуешь ли ты меня? — сказала она. — Но какое же право ты имеешь меня ревновать? А ты ещё настаивал, чтобы я за тебя шла замуж. Разве можно идти замуж за ревнивца? Я с ним вижусь часто; хожу или сижу с ним одна потому, что он от доверенного дяди, был в России и нам есть о чём с ним поговорить, что нисколько не интересно ни для кого, кроме меня, и я вовсе не желаю, чтобы кто-нибудь об этом знал.
Проговорив это, она вдруг прибавила как бы с грустью:
— Но если ты ревнуешь, Бог с тобой! Я тебе не жена и делаю, что хочу! Признаюсь, терпеть не могу ревности!
Граф на коленях выпросил себе прощение.
— Я слишком люблю тебя, чтобы не простить! — сказала ему Али-Эметэ, обнимая его и целуя в голову, которую он склонил к её коленям...
Сцена была весьма нежная. Граф даже плакал от великодушия и нежности той, которую любил больше жизни, и обещал никогда в жизни не огорчать её подозрениями и ревностью. А между тем в тот же вечер Али-Эметэ говорила Доманскому, любуясь его красивыми чёрными усами, так резко отличавшими его от всех бритых подбородков и пудреных голов тогдашней французской моды.
— Нужно ехать скорей, а то мой старик сегодня уже заявил претензию на ревность. А именно в нём, и только в нём, я ревности-то и не хочу возбуждать!
— Только в нём? — спросил Доманский, страстно глядя на её красивую голову и маленькие очаровательные ручки.
— Это что за вопрос? — спросила она его холодным и строгим голосом.
Доманский сконфузился и покраснел; но Али-Эметэ Уже улыбалась и снова своим обычным чарующим голосом продолжала:
Итак ехать, ехать! И ревность успокоим, и нам будет свободнее... Да ведь и отцы иезуиты будут беспокоиться; пожалуй, подумают, что их деньгами я даром воспользуюсь...
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})— Куда же вы думаете прежде всего?
— В Спа, к обер-камергеру. Ты знаешь, как его фамилия?
— Граф Иван Иванович Шувалов!
— А?
И поездка была решена. Начались сборы. Доманский уехал и потом, будто случайно, присоединился к княжне уже в пути. Граф лимбургский проводил свою очаровательницу с молитвой и слезами.
Али-Эметэ поехала, убаюкиваемая розовой мечтою.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
ОН, ВСЁ ОН
Хорошо устроился в своём московском доме князь Никита Юрьевич Трубецкой, зажил барином-патриархом. Всю Москву принимал к себе на поклон.
Дом у него был именно, как тогда говорили, палаты; стоял в самом Кремле, прямо против соборов и царских теремов. Один только неказённый дом и был в Кремле дом князей Трубецких, и этот дом, по отменённому вскоре закону майората, после фельдмаршала-заики Ивана Юрьевича Трубецкого достался Никите Юрьевичу, его племяннику, хотя после Ивана Юрьевича и остались две дочери. Но как быть! Закон обратного действия не имеет, а Никита Юрьевич сперва по праву первородства в мужском колене, по смерти дяди, как князь Трубецкой вступил во владение майоратом, а потом уже как генерал-прокурор самый закон о майоратах отменил.
И устроился же князь Никита Юрьевич: роскошь полная, истинно княжеская. Приём, выезд, прислуга всё это как есть по-княжески, на зависть просто. К тому же всё по-старинному, по-московскому, на прежний лад, только с новыми прикрасами. Что и говорить, зажил по-боярски, в порядке; настоящий московский вельможа. Ему же, как природному москвичу, родовому князю и боярину, ни к боярскому житью-бытью, ни к московским порядкам было не привыкать стать.
Устраивая свой московский дом, князь Никита Юрьевич обратил особое внимание на свой кабинет. Расположен кабинет этот у него был так же, как и в его доме в Петербурге, в двух этажах, с внутренней витой лестницей, но расположен так, что при помощи пристроек, переходов, крылечек и теремов князь мог принимать в нём, одного за другим, пять человек и ни один с другим не могли встретиться. Князя могли ждать и в угловой, и в голубой, и в банкетной, и внизу, и вверху — и ни один не мог видеть князя, если только князь того не хотел. К нему в кабинет можно было проходить через бильярдную, малую столовую, портретную, библиотеку, обходить по китайской галерее и положительно не встретиться ни с кем, если только князь не желал, чтобы приходивший к нему с кем-нибудь встретился.
Ещё была особенность в московском кабинете Никиты Юрьевича, совершенно отличная от того, что было у него в Петербурге. Петербургский кабинет его был обыкновенно завален бумагами; в Москве же у него в кабинете нельзя было найти даже ни одного написанного листа. Всё, что там читалось, — или отдавалось главноуправляющему, стало быть, хранилось в конторе, или сжигалось, для чего в кабинете была устроена особая печь. Не писал князь у себя тоже ничего. Он всё вспоминал ту минуту, как он стоял перед Екатериной и думал: «А что, если в самом деле там, у меня, осмотр делают и найдут этот лист, один только лист? Хотя он потайной доской закрыт... да что им потайная доска! Что, если?.. Ведь тогда пытка, смерть...»
«Поневоле нужно было рассчитывать на великодушие, бить на снисходительность; поневоле пришлось бы выдать, — вспоминал про себя Трубецкой. — Я чувствовал, что найдут, и нашли бы, непременно нашли. И как возможна подобная неосторожность? — рассуждал Трубецкой. — Как это в голову не пришло? Ну уж в другой-то раз не попадусь, ни за что не попадусь! Комар носа, это верно, ни за что не подточит. И зачем писать у себя и самому? Будто нет чужих мест и чужих рук? Нет, теперь, кроме поздравительных писем да записок о торжествах и днях рождениях, моей руки никто ни о чём не увидит».