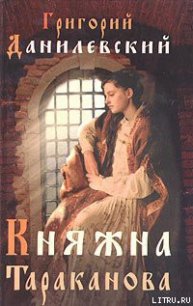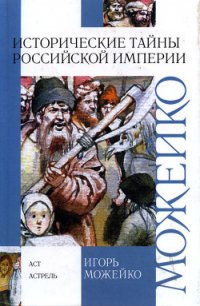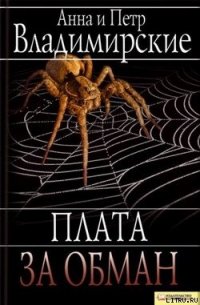Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
— Мой князь, мой милый, добрый князь, — сказала она, обвивая его голову, когда он стоял перед ней на коленях. — Мне не следовало бы вас слушать. Я должна была бы бежать, скрыться, исчезнуть... Но я не в силах... Зачем я здесь? — спрашиваю себя. Зачем слушаю ваши обольстительные, смущающие мою душу слова? Не знаю; в вас что-то есть, что меня приковывает, увлекает, и я не в силах противиться себе... не скрою этого от вас. У меня много поклонников, много ухаживателей, воздыхателей; многие искали моей руки; последний из них был ваш гофмаршал граф де Валькур. Не скажу, чтобы никто из них мне не нравился; но они нравились мне до первого объяснения, а потом... потом, бывало, я невольно начинала раздумывать: «Что? К чему? Какие будут последствия?» А начну раздумывать — невольный холод обдаёт всякую мечту. И если даже нравился мне человек, я невольно начинала его избегать. Вы первый, которого почему-то я не могу избегать; первый, который почему-то не возбуждает во мне ни сомнений, ни вопросов... Я не спрашиваю себя: что и зачем? Вас я слушаю, слушаю и хочу ещё слушать! Нет, мало слушать...
И она живо наклонилась к нему и горячо, страстно поцеловала его лоб.
Князь без памяти, без ума, прижал её к своей груди.
Но в ту же минуту она встала и на страстную мольбу князя отвечала:
— Через час, в саду, я твоя!..
Время шло незаметно. Князь лимбургский блаженствовал с молодой подругой, забыв всё на свете. Он забыл и свою тяжбу с королём прусским, и свою заботу о выкупе оберштейнских прав, и о своих притязаниях на Гольштейн. Он всё забыл: он видел только одну очаровательницу, в которой слился для него целый мир.
— Моя Элиза, моя несравненная Элиза, — говорил он, — моя повелительница, моя султанша, очаровательная Геба, своим нектаром опьяняющая самого громовержца, скажи, отчего, смотря на тебя, я не могу ни о чём думать, кроме тебя?
— Я думаю, потому, — отвечала, смеясь, Али-Эметэ, — что и я не думаю о моём Владимирском княжестве и о Персии, когда бываю с тобою и играю перед тобой роль очарованной Калипсо.
— Ты Гебой лучше. Впрочем, нет!.. Я и сам не знаю, чем и когда ты лучше. Мне всегда кажется, что лучше того, чем ты есть в ту минуту, как я на тебя смотрю, уже ничего не может и быть.
— А я люблю тебя всегда лучше рыцарем. Впрочем, ведь ты и так рыцарь чести и благородства. Недаром, говорят, Линанжи носили девиз: «Бог и моя честь!» Они были истинные рыцари, а ты их прямой потомок!
— Да, но потомок без железа и крови.
— Зато с чувством и душою. Ты мне часто говорил, что ты немолод; зато твоя душа, твоё чувство вечно молоды и вечно хороши, а душой любить можно только душу! Кстати, сегодня я хочу быть Психеей, будящей своего Амура... Согласен?
Ряд такого рода страстных сцен, в которых Али-Эметэ являлась то Гебой, то Психеей, закружили графа лимбургского совершенно. Жизнь, полная неги и наслаждения, совершенно поглотила всё его существо. Он теперь не понимал, как он мог жить иначе, и расчёт Али-Эметэ, думавшей, что тот, кому она отдаётся, никогда её не забывает, в рассуждении графа лимбургского оказался верным до математической точности. Не прошло двух месяцев, как он предложил своей Элизе не только своё сердце, но и руку.
— Зачем? — сказала она. — Разве так мы не довольно счастливы?
— Но счастие наше не гарантировано на целую жизнь. Умоляю, Элиза, успокой меня, обещай!..
— Да, но у меня также есть обязанности; эти обязанности требуют, чтобы прежде, чем я решу свою участь, я подумала о них.
Уверенная в себе, Али-Эметэ не торопилась принять предложение, которое, она знала вперёд, он рад будет повторять без конца. И точно, граф начал умолять её всеми мерами.
— Но ведь у меня есть жених; ты позабыл — граф Рошфор де Валькур. Мне нужно прежде покончить с ним. Правда, давая ему слово, я не думала, чтобы могла кого-нибудь полюбить, и решилась более потому, что нужно же иметь кого-нибудь, кто бы меня защищал и охранял; но всё же!..
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Но ей не удалось договорить; вошёл дежурный камердинер и доложил светлейшему графу: гофмаршал вашего высочества граф Рошфор де Валькур.
Али-Эметэ хотела уйти, но граф лимбургский остановил её.
— Я пойду к нему, — сказал он и вышел.
До ушей Али-Эметэ доходил крупный разговор, потом брань, наконец, сильный звон колокольчика, шум множества голосов и разом наступившее молчание.
Любопытство страшно мучило Али-Эметэ; ей очень хотелось пройти две комнаты, которые разделяли её от кабинета графа, куда, вероятно, пригласили Рошфора. Однако боязнь вдруг встретиться лицом к лицу со своим прежним женихом удержала её от этого.
Граф вышел бледный, расстроенный.
— Что у вас там было? — спросила она спокойным тоном, подавляя своё любопытство.
— Ничего! — отвечал граф. — Я велел его посадить в крепость!
— В крепость? За что?
— Представь себе, какой негодяй! Вздумал уверять, что ты была его любовницей!
— Вот они всегда так, эти мужчины; скажи им ласковое слово, они готовы уверять, что от них без ума были. Ты лучше чем кто-либо можешь знать, была ли я чьей-нибудь любовницей!
— Ты мой идеал, моя богиня, моя несравненная! — отвечал имперский князь, целуя её руку. — Осчастливь только своей ручкой преданнейшего тебе друга и вернейшего раба твоей красоты. Если мог быть твоим покровителем Рошфор, почему же ты не хочешь выбрать своим покровителем меня?
И началась опять для графа лимбургского жизнь неги и наслаждения; опять забывал он целый мир в объятиях обворожившей его Цирцеи, думая только о том, как бы убедить её принять его имя и титул, как бы сделать, чтобы она решилась стать владетельной светлейшей графиней, имперской княгиней гольштейн-лимбургской.
Граф в наслаждении забывал все; но не забывали своих предположений отцы иезуиты; не забывал их и князь Радзивилл. Недаром же платил он в течение двух лет по сто двадцать тысяч франков. Не забывал прекрасной княжны и Огинский, которому воспоминание отрадных минут, проведённых с нею, было той радостью, ради которой — как он говорил — он, родовитый поляк, может забыть даже свою отчизну.
Письма, получаемые из России, заставляли их действовать. Екатерининские генералы разбивали поднятых против неё турок. Из Константинополя писали, что без существенной, серьёзной помощи султан не выдержит и заключит мир. Шведы не смели думать подняться, хотя не могли примириться с мыслью, что из первенствующей державы Севера они стали почти ничем. Польша была под русским гнетом, и прусский король, видимо, заискивал перед Екатериной, чтобы вместе с ней воспользоваться польскими раздорами.
«Ну, мы и Австрии что-нибудь дадим, — думал Фридрих II, — а если она не захочет, то... вдвоём с русской императрицей мы обойдёмся и без неё».
«Нужно действовать, непременно нужно действовать, — думали и иезуиты, — а русский вельможа, живущий в Спа, говорит, что единственное средство потрясти могущество Екатерины заключается в том, чтобы выставить её соперницу, права которой были бы твёрже, происхождение несомненнее, законность яснее, чем те основания, на которые опирается самодержавие Екатерины».
И отцы иезуиты решили отыскать Али-Эметэ и убедить её приступить к их планам во что бы то ни стало.
Поручение отыскать и уговорить выпало на красавца поляка Доманского.
— Убедите её, чем хотите и как хотите, — говорил отец д’Аржанто. — Скажите, что пенсия её будет удвоена; что на первое время будет ей выдана более или менее значительная сумма; что свобода её стеснена не будет. Обещайте всё, только бы она начала, вошла бы хоть в переписку с кем нужно. Не забудьте, что вы этим послужите церкви и церковь не забудет вас.
Случай помог Доманскому напасть на след барона Эмбса, или Ван Тоуэрса. Он нашёл его во франкфуртской долговой тюрьме.
Несмотря на то что забытый Ван Тоуэрс, томясь в заключении, имел все основания быть озлобленным против бывшей своей любовницы, он ни одним звуком не захотел ей чем-либо повредить. Последняя ласка её всё ещё нежила его воспоминание, и он тогда только указал Доманскому адрес Али-Эметэ, когда уверился, что все предложения, которые Доманский хотел ей сделать, клонятся к её пользе.