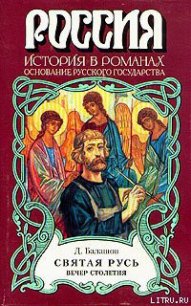Отречение - Балашов Дмитрий Михайлович (версия книг .TXT) 📗
Хозяин Москвы тяжело поднялся с лавки, приказал:
— Отрока покажи!
Ваня потом всю жизнь вспоминал грузного осанистого боярина в дорогом зипуне, его тяжелую старческую руку с перстнем, которую его заставили поцеловать, взгляд грозных глаз откуда-то с выси — таким запомнился и таким помнился ему годы спустя последний великий тысяцкий Москвы.
Ночью, уложив детей на полосатом тюфяке, на полу, под стеганым одеялом, Наталья помолилась, задула свечу, сняла саян (отвычно было и спать раздетою на господской постели в тепле и холе богатого терема!) и, провалясь в немыслимые вельяминовские пуховики, молча заплакала. Обо всем: о погибшем муже и детях, потерянной деревне, вдовьем одиночестве своем, о том, что труды ее, не видные никому, обычные в круговерти селетошней трудноты, превышают ее слабые бабьи силы, и не к кому приклонить голову, нету сильного заступника, и сам Василь Василич, бывший некогда каменною стеною, приблизил, почитай, к пределу своему, и как одинока она, Господи, в этом трудном, в этом жестоком мире!
В слезах и уснула. Видела вновь Никиту во сне. И утром, в потемнях, слушая здоровое посапыванье детей, долго не могла встать, собрать себя, так разломило все тело давнею усталью, так разморило и обессилило ее теплом и уютом чужого житья. Все ж таки встала, умылась холодной водою, разбудила отроков.
Уже когда собрались и поснидали с молодшею челядью, вышла Марья Михайловна, милостиво расцеловала при всех, вручила гостинцы на дорогу.
Мальчики были тихи, пока выезжали из Москвы, смотрели затуманенными глазами на каменные стены Кремника, на высокие боярские терема, молчали, испуганные и укрощенные градским, невиданным доднесь велелепием.
ГЛАВА 3
Наталья кутала лицо в кудрявый мех обжитого ею Никитиного тулупа. Вспоминала, все ли наказы дала возчикам, которых отпустила сегодня утром. Сытый, отдохнувший на овсе конь весело бежал, пристяжная, тоже повеселевшая, играя, вскидывала задом, и тогда Ванята, как заправский ямщик, крутил над головою кнут, протяжно и смешно выкликал (ему самому казалось, что грозно), укрощая разрезвившуюся кобылу.
Лутоня сидел притихший. На заботные Натальины вопросы отмалчивался. По этой дороге брел он, ограбленный и голодный, чая застать дядю Никиту в живых, а теперь — что ожидает его дома? Может, вернулся старший брат? Угнали ведь, не убили! Но сердце молчало, сердце не давало веры, впереди ожидала его одна лишь могила отца.
Сани то и дело проваливали в водомоины. Солнце гигантскою мягкой рукою прижало снега, и те оседали прямо на глазах. И, поглядывая в напоенные солнцем гари и раменья, Наталья с беспокойством думала о том, что ежели так пойдет, доберутся ли они и до Острового?
Спешили, сколь мочно было. Ехали дотемна, и в потемнях, покормив коней, тотчас пускались в путь. Когда, попетлявши по проселкам, нашли едва промятую редкими санями тропу, Лутоня и вовсе примолк, застыл в немом горестном ожидании. Вот взъехали на угор, вот показалась кровля соседской избы…
Лутоня первым соскочил с саней, пробежал, увязая в протаявшем снегу, к двери своего дома, начал, бестолково растаптывая снег, соваться туда и сюда, от дверей избы к дверям холодной клети, от нее — ко мшанику.
Пробив конем снег, подошли к могиле Услюма. Наталья рассыпала птицам прибереженную кутью, трижды поклонилась могиле деверя. Лутоня уродовал губы, расплакался, не сдержав себя. Разом слетелись желтые сойки; синичка, произнеся свое «чив-чивик», повисла перед ними на тоненькой веточке. Покоем и миром дышала одинокая, укрытая в тени крупноствольных сосен могила. Так же негромко, как жил, успокоился Услюм в родимой земле. И Наталья, подумав о том, что от Никиты у нее не осталось даже родной могилы, тихо всплакнула тоже, утерев краем плата увлажненные глаза.
Сосед сожидал их на пороге своего дома. Расхмылился, увидав Лутоню.
— Бычок твой живой, живой! Красавец стал! — без вопроса отозвался он на немое вопрошание. — И ульи, поди-ко, целы! — Он потянул скрипнувшие створы ворот. Мотанув рогатою головою, бык выступил, щурясь, на свет. У него уже наливался загривок и в глазах явилось тяжелое, нравное. Обнюхал Лутоню, недоверчиво всхрапнув, но, видимо, что-то понял, дух ли уведал знакомый, и потому, когда Лутоня, обняв и лаская рогатую голову, прижался лбом к морде быка, заплакав вновь, бычок не отшатнулся, но замер и, спустя миг, долгим шершавым, схожим с теркою языком начал облизывать руки отрока.
— Признал, признал! — радостно возгласил сосед. Жонка вылезла тоже вослед ему на крыльцо, с поклонами зазвала в горницу.
— Батька евонный хозяин-от доброй был! Нам по первости без еговой помочи и не выстать было! — тараторила улыбчивая хозяйка, собирая на стол.
— Дак уж и мы берегли! Терем-от! Тута шатущего люду до беды бродило!
На немой вопрос Натальи Лутоня, когда уже восставали из-за столов, отведав хозяйской каши с пареною репой, повел плечом, примолвив сурово:
— Останусь! Хозяйство не бросать же! Ульи, да…
— А и пущай, и не сумуй, боярыня! — живо подхватила хозяйка. — По первости и у нас поживет! А там весна! Бык-от доброй! Да ульи! С медом, што с серебром! К осени каку и коровенку спроворим!
— Весной на одном луке прожить мочно! — подхватил хозяин. — А там грибы, да репа, да морковь…
— Пахать-то как? — слабо сопротивлялась Наталья.
— И конь есь! — радостно воскликнул хозяин. — Я уж не кажу, сведут! Есь, есь конь! У нас хошь и на троих хозяев один конь, а есь! Вспашем!
— Може, лето-то проживешь у нас, Лутонюшко? — ненастойчиво попросила Наталья наутро, когда уже собирались в обратный путь. Но отрок, твердо сведя губы, молча отмотнул головой. Для него детство окончилось в этот час, в этот день или, точнее, вчера, в давешний миг ослабы с последними беспомощными слезами на шее отцовского быка. Он уже думал о том, как начнет поправлять испакощенные Литвою хоромы, как впервой сам-один, без отца, станет рассаживать рой, как по осени повезет мед на базар, и, быть может, тогда и воротит из Литвы старший брат, и они вдвоем подымут вновь отцово хозяйство?!
Наталья воздохнула, поняла, не стала настаивать. В сердце себе положила: послать сюда хотя куль ржи из Острового. Отроки, неважно, что дома зачастую и ссорились и дрались, тут крепко, по-взрослому, обнялись, и Ванята, осуровев взором (в подражание отцу, как с болью опять узрела Наталья), вымолвил:
— Наезжай! Завсегда рады! И помочь кака… — не домолвил, махнул рукой.
За ночь подстыло. И, пока не выбрались на торную дорогу, конь (пристяжная тесноты ради бежала сзади, за санями) резво нес розвальни по извилистому лесному пути, минуя редкие, наполовину заброшенные росчисти, — литва нахозяйничала тут до беды. На большой дороге перепрягли коней, покормили, и уже, почитай, не останавливали до самой Москвы, куда въехали глубокою ночью, едва упросивши сторожу открыть ворота.
Прислуга провела вдову с отроком в ту же горницу, с тою же пуховой постелью, поставила на стол горшок теплых щей и хлеб. Ванята заснул с ложкой в руках. О хозяине терема служанка только и высказала одно:
— Гневен!
Впрочем, измученная дорогою, Наталья заснула как убитая, не ведая и не думая ни о чем, положась на то, что утро вечера мудренее.
ГЛАВА 4
Утро вечера оказалось и мудренее и мудрёнее. В грозовом облаке взаимных боярских покоров неловкая история с захваченной под себя Миниными крохотной деревенькой под Коломною, принадлежавшей какой-то вдове, по сказкам, бедной родственнице Вельяминовых, послужила последнею каплей, поднявшей бурю.
Не добившись от государева дьяка за два протекших дня ни ясного «да», ни вразумительного «нет», Василь Василич вскипел и совершил то, чего не должен был делать ни при каких условиях. Из утра отослал Наталью в Островое в сопровождении ратных, наказав своему посельскому силой вышибить из деревни Мининых холуев, отобрать обилие и вернуть землю и корм Никитиной вдове.