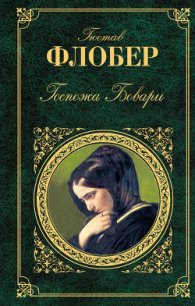Раквереский роман. Уход профессора Мартенса (Романы) - Кросс Яан (читать книги онлайн регистрации .TXT) 📗
Помню, Столыпин следил за нами типичным для него недовольным взглядом из-под желтого лысого лба и черных бровей с той неподвижностью, которой он часто пользуется и которую, как известно, может заменять театрально размашистой оживленностью. Извольский улыбался нам вяло и утомленно. Мне еще не было известно, а он, должно быть, уже знал, что против него начались интриги и он не останется на министерском посту и не станет послом в Лондоне, куда ему хотелось попасть, а должен будет примириться с Парижем, а, по его мнению, это место второго ранга. Позже он говорил мне, что по его совету Столыпин велел позвать меня на их переговоры. Иначе — составленный ими текст они, наверно, послали бы мне в каюту отредактировать… И при этом тот же Извольский послужил буфером, ослабив какой-то элегантной фразой излишние излияния англичан, ибо в присутствии Столыпина подобное дружелюбие могло быть даже опасно… Но во всяком случае вполне понятно. Ибо… ну, мне не известно, знал ли об этом что-нибудь Столыпин (а если бы знал, то мне бы это пошло, разумеется, во вред), но Извольский наверняка знал, а англичане тем более: я же был почти что увенчан Нобелевской… (Об этом странно думать, но в девятьсот втором году эта честь прошла мимо меня еще ближе, чем, скажем, мимо Толстого…) Так что Извольский как-то ловко нейтрализовал излишне почтительную любезность англичан, затем я сел рядом с ними, и за полчаса с несколькими моими уточнениями монаршее соглашение было написано. Как принято, сперва по-французски, с которого мы тут же сделали взаимно проверенные и акцентированные русский и английский переводы. Ибо текст был краткий и носил общий характер, какими обычно бывают подобные тексты. Чтобы создать впечатление хоть некоторой конкретности, в нем говорилось, согласно желанию монархов, о деле, против которого никто третий не смел бы встать на дыбы: о споспешествующем отношении обоих монархов к развитию Турции. Ну, мне лень вспоминать подробно Таллинское соглашение между русским самодержцем и английским королем, заключенное 27 мая 1908 года. Все равно это уже вошло или, во всяком случае, войдет в дальнейшем во все исторические книги. И в самых подробных, очевидно, скажут, что оно фактически положило начало Entente cordial [73].
В вечерних сумерках я смотрел в иллюминатор, как на кадриоргском берегу муравьи зажигали фейерверк. Помню, я пытался увидеть в этом изящно печальную, но снимающую напряжение картину иллюминации в духе Ватто. Однако красное пламя и черный дым смоляных сот на фоне светлого весеннего ночного неба были какими-то угрожающими. И у меня невольно возник перед глазами холст одного польского художника (не помню его имени): удручающая картина сожжения Рима, увиденная мною лет двенадцать назад в Петербурге в его ателье. Старый Кёлер водил меня смотреть. Я закрыл иллюминатор — словно бы это могло стереть мое странное беспокойство — и пошел поглядеть, что происходит на рейде.
Вечерний банкет с монархами, министрами и высокими военными чинами (от англичан еще генерал Френч и адмирал Фишер) происходил на яхте вдовствующей императрицы «Полярная звезда». Когда я вышел на палубу «Алмаза», из порта как раз отчалили три маленьких парохода. Они развесили на лиловатом небе перед городскими башнями черные гирлянды дыма и взяли курс на «Полярную звезду». Через несколько минут в четверти кабельтова от нее стали на якорь. И тут на рейде начался концерт. «Полярная звезда» и возле нее в ряд стоявшие суда находились от носа «Алмаза» в кабельтовом. Над тихим лилово-серым морем громко и сразу со всех трех кораблей разнеслось «God save the King» [74] и потом «Боже, царя храни». Кстати, для моего, в общем, довольно музыкального слуха оба эти гимна всегда казались до смешного похожими. Прожекторы сгрудившихся кораблей направили на корабль вдовствующей императрицы. Его борт с орнаментом из позолоченного каната вспыхнул и засверкал. У поручней столпились явно вставшие из-за банкетного стола муравьи. В бинокль были отчетливо видны Ники в светло-красном английском и Эдуард в белом бранденбургском мундире русской кавалерии, а вокруг дамы и господа, но я не смог установить, кто именно.
Какой-то человек, вставший рядом со мной у поручней «Алмаза», объяснил: на корабле справа русский хор. Он называется «Гусли» и будто бы выступает под управлением господина Дьяконова в Таллинском русском клубе. Средний корабль — немецкий. Так пели «Mânnergesangverein» и «Liedertafel» [75] под руководством господина Тюрнпу. Левый пароход будто бы с эстонцами. Ими руководили господа Топман и Бергман. Но гимны исполняли все вместе, и дирижировал господин Тюрнпу, который стоял для этого в лучах прожекторов на крыше рубки немецкого корабля. После гимнов и последовавших за ними императорско-королевских аплодисментов были исполнены русскими на русском языке, немцами на немецком и эстонцами на эстонском по три песни. Первые две эстонские песни я по своему невежеству не узнал. Третья была, по-видимому, «Тульяк» Мийны Херманн. Незнакомец рядом со мной у поручня сказал:
— Ну, разве не трогателен этот трехъязычный концерт? Чтобы король Эдуард собственными ушами слышал, насколько лживы все разговоры социалистов о национальном притеснении, которое будто бы происходит в прибалтийских губерниях. Послушайте: все имеют право — притом в присутствии самого императора — на своем языке прославлять его величество и отечество.
Помню, я повернул голову и взглянул на своего соседа. В ночных сумерках я увидел между поднятым от холода черным воротником пальто и черным котелком лицо коренастого сорокалетнего мужчины с рыжими усами. Идеально ничего не говорящее лицо. Я подумал: это или кто-нибудь из губернских господ, которому посчастливилось попасть на «Алмаз» понаблюдать за церемонией, и он изображает придурковатую лояльную личность, или он и на самом деле придурковатый сторонник лояльности. На сей день наиболее надежная позиция. Для того, кто способен быть выше собственной смехотворности. Или это столыпинский шпик, который хочет выведать, что я отвечу на его слова.
Он повернул ко мне спокойное, упитанное лицо и измерил меня серыми пристальными глазами. И помню: я физически ощутил, что он думает то же, что и я: кто-нибудь из имперских должностных лиц, откуда мне их всех знать. Или столыпинский шпик. И в том и в другом случае нужно быть осторожным. Он ничего не сказал. Но мне вдруг показалось, что и в его лице, и в типе, и в произнесенных по-русски словах было что-то неуловимо чужеродное, то есть свое… И я спросил его по-эстонски:
— А вы знаете, как называются эстонские хоры?
Он мгновение молча смотрел на меня и ответил, будто ничуть не удивившись:
— «Estonia» и «Lootus» [76].
Все эти народы и языки, флаги и государства хранились и жили в моем внутреннем сознании задолго до встреч на Пярнуской речной пристани. Ибо всех их и еще гораздо больше я видел и слышал восемьдесят девять лет назад на пристанях Эльбы. И этот темный зелено-синий Васкряэмаский сосновый лес, который течет за окном моего купе, это же не лес. Нет! Это детский рисунок курчавых волн зеленосиней реки Эльбы… И семилетний мальчуган, наглаженный, накрахмаленный, как полагается детям господ адвокатов, пускает кораблик с красным гамбургским флагом на лестнице, спускающейся к лодкам…
Где-то там за его спиной — да-да-а, Gartenstrasse, Nummer neun [77] (я же это не придумал, господи боже, — он ведь был — он и есть), этот желтый оштукатуренный дом, торцом выходящий на улицу… Почему-то с овальными окнами на верхнем этаже… Может быть, французское влияние… Я же этот дом видел… если я там родился… То есть не этот дом в прямом смысле слова. Когда в первую же свою заграничную командировку я поехал в Гамбург (куда же еще?! Если восемьдесят девять лет назад я там родился!), но к тому времени за бывшими Песчаными воротами все было уже совсем другим — в 1842 году все Дочиста сгорело, в том числе и дом, где я родился, — и к моему приезду было неузнаваемо перестроено. Но в антиквариате я нашел старинные гравюры, которые помогли мне более или менее восстановить все в памяти… И, повинуясь той же тяге, я сразу поехал из Гамбурга в Гёттинген и нашел там тоже следы своей предыдущей или еще более ранней, былой жизни…