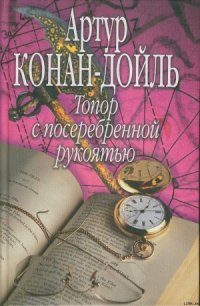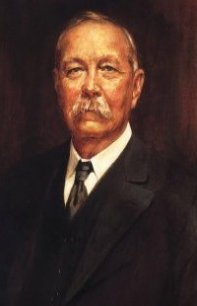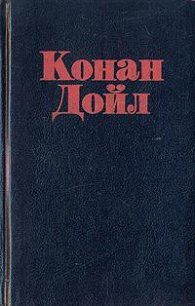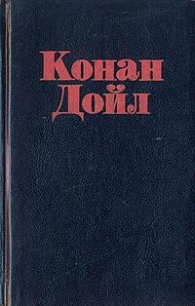Жена мудреца (Новеллы и повести) - Шницлер Артур (книги онлайн полные версии .txt) 📗
Однажды он попытался даже убедить свою подругу в том, что такая близость ей не подобает. Но Катарина, казалось, не поняла его доводов, и доктор замолчал, не желая омрачать неприятной размолвкой свое столь краткое счастье. Он вообще твердо решил смотреть на всю эту любовную историю, как на милое приключение, которое не должно иметь никаких серьезных последствий. Поэтому, когда Катарина любопытно, хотя скромно и как бы ненамеренно стала расспрашивать его о планах на зиму, о климате островка Ландзароте и о тамошней публике, он ответил ей очень уклончиво и поскорее перевел разговор на другую тему, чтобы не возбуждать в ней надежд, осуществлять которые он отнюдь не собирался. Испытывая одно желание — ничем не омрачать это короткое счастливое время, Греслер тоже не интересовался ее прошлым, вполне довольствовался настоящим и наслаждался не только тем счастьем, какое она давала ему, но — и еще больше — тем, какое мог дать ей сам.
Дни и ночи сменяли друг друга, и постепенно, особенно по утрам, когда Катарина еще спала возле него, в нем начала все сильней пробуждаться тоска по Сабине. Греслер думал о том, насколько он был бы счастливее, насколько достойнее сложилась бы его жизнь, если бы вместо этой хорошенькой крошки-продавщицы, у которой, помимо помолвленного с нею бухгалтера, было, наверное, еще несколько любовников, которая надувает своих честных родителей и с восторгом слушает сплетни привратницы, если бы вместо этого незначительного создания, правда, очень милого и доброго, здесь, на его подушке, покоилась белокурая головка того прекрасного существа, которое с такой чистой душой предложило ему себя в спутницы жизни и которое он оттолкнул из-за какого-то совершенно непонятного неверия в самого себя. Ему было ясно теперь, что его робкое глупое письмо она приняла просто за решительный отказ, в сущности, он и сам тогда думал именно так. Но разве уже нельзя исправить то, что он испортил своей глупостью и поспешностью? Разве вообще может чувство, которое питала к нему Сабина и которое она столь продуманно и осторожно изобразила в своем письме, попросту угаснуть в ней и никогда уже не вспыхнуть вновь? Разве он сам в своем ответе не назначил срок — и ей, и самому себе? Может быть, не давая о себе знать, она только выполняла его же условия и, может быть, именно в этом молчании, в этом терпении отражается все благородство, вся чистота ее души? И неужели теперь, когда, по прошествии им же самим назначенного срока, он явится к ней и принесет ей свою благодарность, свое окончательное, зрело обдуманное и тем более ценное согласие, он не найдет ее такою же, какой недавно оставил? Едва ли в мирной тиши лесничества мог появиться кто-либо другой; чистое сердце Сабины не могло смутить ни его нелепое, но, в сущности, беззлобное письмо, ни какое-нибудь внезапное новое чувство. Да, да, все его опасения не что иное, как последняя вспышка упрямства в его собственной одинокой, боязливой душе, теперь, благодаря редкой милости случая, вновь обретшей и веру в себя, и решимость. Ему все чаще казалось, что истинное призвание Катарины — вернуть его к Сабине, в любви которой скрыт весь смысл его жизни. И чем доверчивее, не думая о будущем, Катарина отдавала ему свое юное, пылкое сердце, тем настойчивее и нетерпеливее вся душа его рвалась к Сабине,
Внешние обстоятельства также побуждали доктора поторопиться с окончательным решением: уже подходил к концу октябрь. Прежде всего Греслер счел необходимым уведомить владельца санатория, что собирается приехать через несколько дней и все выяснить. Ответа, однако, не последовало. Тогда Греслер послал телеграмму с запросом, может ли он в такой-то день застать доктора Франка, но опять безрезультатно. Это рассердило, но не встревожило Греслера: он прекрасно помнил, какой угрюмый, нелюбезный характер у этого господина. Предупредить же письмом о своем приезде Сабину он был не в силах. Он просто поедет, встанет перед ней, возьмет ее за руки — и пусть ее ясный, чистый взгляд даст ему желанный ответ.
XIII
День, когда кончался отпуск Катарины и она должна была снова переехать от Греслера к родителям, был, конечно, известен заранее. Но, как будто сговорившись, они ни словом не упоминали о предстоящей и все приближавшейся разлуке. Да и все поведение Катарины настолько исключало всякую мысль об этом, что Греслер начал уже беспокоиться, не собирается ли это привязчивое создание остаться с ним на всю жизнь, точно так же, как в тот первый вечер она нежданно явилась к нему с чемоданчиком в руках. Поэтому однажды утром, когда девушка еще спала, у доктора созрел план удрать из квартиры и из города. Незаметно для нее он начал готовиться к отъезду. Помимо индийской шали он подарил своей подружке еще кое-что из одежды покойной сестры, а также несколько недорогих украшений — более ценные вещи он решил сохранить для Сабины. Дня за два до намеченного отъезда, в хмурый, дождливый вечер, когда Катарина сидела, как обычно, в отведенной ей комнате, Греслера опять потянуло на чердак: ему показалось, что он найдет там еще какой-нибудь подарок для Катарины, что не только успокоило бы его совесть, но до некоторой степени могло бы утешить ее после его предстоящего исчезновения. Он принялся искать: перебирал всякие вещи, открывал один сундук за другим, разглядывал шелковые материи, белье, альбомы, вуали, носовые платки, кружева, ленты. Неожиданно ему под руку опять попался пакет, который, согласно желанию покойной, следовало сжечь, не вскрывая. При мысли о том, что он теперь долго, а быть может, и никогда не попадет больше сюда, на этот темный чердак, Греслер впервые ощутил любопытство. Отложив пакет в сторону, он решил сначала припрятать его в надежное место и завещать следующему наследнику, который сможет прочесть его, не оскорбляя этим памяти давно умершего и совершенно ему неизвестного человека. Отобрав для Катарины две красивые вещицы — изящную янтарную нитку и пожелтевшую восточную вышивку, — ни той, ни другой он, кстати сказать, ни разу не видел на Фридерике, — он снес их и маленький пакет вниз, все вместе положил на письменный стол и лишь потом отправился к Катарине.
Когда он вошел, девушка сидела в кресле, закутавшись в красноватый китайский халатик с вышитыми на нем золотыми драконами, недавно подаренный ей доктором, и, держа на коленях какой-то из своих излюбленных иллюстрированных романов, спала. Греслер растроганно взглянул на нее, не став ее будить, вернулся в кабинет и, усевшись за письменный стол, в задумчивости принялся машинально крутить бечевку, которой был перевязан пакет. В конце концов сургучная печать лопнула и сломалась. Греслер пожал плечами. «Почему бы и нет? — подумал он про себя. — Она умерла, в бессмертие души я не верю, а если оно, паче чаяния, существует, то душа Фридерики простит меня — она ведь витает теперь в таких недосягаемых сферах… К тому же слишком мрачных тайн там содержаться не может». Доктор сорвал обертку пакета и увидел множество пачек писем, причем каждая пачка была переложена чистым листочком бумаги. Он сразу заметил, что письма подобраны в строгом порядке. Первым в руки Греслера попало послание, написанное тридцать лет тому назад молодым человеком, который называл себя Робертом и имел, по-видимому, право обращаться к Фридерике в весьма нежных выражениях. Судя по содержанию письма, этот Роберт бывал в доме их родителей, но Греслер никак не мог припомнить, кто же это. Его рукой было написано с дюжину писем: все очень страстные, но наивные и бессодержательные, а потому и не особенно интересные. Потом пошли письма того периода, когда Греслер служил врачом на пароходе и возвращался домой только раз в два года на самое короткое время. Но эти письма были написаны несколькими почерками, и вначале Греслер никак не мог понять, что, в сущности, означают все эти страстные заверения, клятвы в верности, напоминания о прекрасных минутах, вспышки ревности, предупреждения, неясные угрозы и невероятные обвинения, — и какое вообще отношение имеет к его сестре вся эта грязь. Он уже чуть было не предположил, что письма адресованы кому-нибудь другому, какой-то из подруг Фридерики и были переданы ей только для сохранения, как вдруг один почерк показался ему знакомым, и скоро у него не осталось ни малейшего сомнения в том, что письма эти писал Белингер. Прочтя их внимательно, он распутал клубок этого странного романа, и ему стало ясно, что Фридерика на третьем десятке лет, то есть будучи уже взрослой девушкой, была тайно помолвлена с Белингером, что тот под предлогом какого-то прежнего увлечения Фридерики все время оттягивал свадьбу, что она из нетерпения, каприза или мести с кем-то ему изменила, и хотя потом пробовала с ним помириться, Белингер на все ее попытки отвечал только вспышками гнева или презрения. Тон его последних писем был настолько несдержан и, пожалуй, даже неприличен, что Греслер никак не мог уразуметь, каким образом у них в конце концов все-таки наладились хорошие отношения, а потом даже завязалась своего рода дружба. Читая, доктор испытывал не столько удивление, сколько напряженный интерес; поэтому он с возрастающим любопытством, хотя и без особого волнения, стал доискиваться, какие еще тайны жизни Фридерики откроются для него в остальных письмах. Их было немного, но так как почерки были очень несхожие, Греслер предположил, что Фридерика сохраняла только некоторую, избранную часть своей переписки. Так, например, в нескольких письмах оказались только разрозненные буквы и цифры, по-видимому, тайный любовный шифр. Затем следовал многолетний перерыв в датах, и дальнейшие письма относились уже к периоду, когда Фридерика поселилась вместе с братом; некоторые из них были написаны по-французски, по-английски, а два, вероятно, на каком-то славянском языке, которым, оказывается, владела Фридерика, о чем Греслер и понятия не имел. Тут были послания молящие и признательные, почтительно-осторожные и страстно-пылкие; Греслер то и дело смутно припоминал кое-каких своих пациентов, которых он сам, невольный сводник, знакомил с Фридерикой. А последнее письмо, пламенное, бессвязное и дышащее предчувствием близкой кончины, было, несомненно, написано тем чахоточным девятнадцатилетним юношей, которого Греслер лет десять назад, уже совсем умирающего, вынужден был отослать с юга на родину. Он невольно спросил себя, не эта ли любвеобильная женщина с богатым опытом, — такою вырисовывалась теперь перед ним его по видимости столь добродетельная сестра, — уготовила преждевременную кончину бедному молодому человеку? Но если вначале у доктора и возникло недоброе чувство к покойной от запоздалой обиды на то, что она так мало доверяла ему и вдобавок еще, пожалуй, считала его филистером, как та, другая, а сам он, наверное, казался людям таким же смешным, как обманутый муж, тем не менее все это искупалось умиротворенным сознанием того, что Фридерика недаром прожила жизнь, что он теперь совершенно свободен от всякой ответственности за нее и что она, как обнаружилось со всей очевидностью, ушла из жизни потому, что не могла уже брать от нее те радости, которыми прежде наслаждалась в избытке. Он еще раз проглядел письма, перебирая их одно за другим и перечитывая отдельные строки, и ему показалось, что не все, что он сегодня узнал, было для него таким уж новым и неожиданным, как он думал сначала. Вот, например, легкая интрижка, которая много лет тому назад завязалась на Женевском озере между Фридерикой и одним французским капитаном и о которой свидетельствовало одно из писем, лежавших перед доктором. В свое время он кое-что заметил, но не придал этому значения, да и вообще не счел себя вправе вмешиваться в дела более чем тридцатилетней сестры. А что Фридерику и Белингера еще очень давно, чуть ли не в детские годы, связывало серьезное обоюдное чувство, он тоже догадывался, хотя, правда, совершенно ничего не знал о дальнейшем развитии их отношений. Поэтому вполне возможно, что те странные взгляды, которые за последние годы нередко устремляла на него Фридерика, таили в себе не жалобы и упреки, чего он так опасался, а, скорее, мольбу о прощении за то, что она, скрывая от него свои переживания и чувства, жила рядом с ним, как чужая. Но ведь он и сам поверял ей только наиболее невинное из того, что пришлось ему пережить и перечувствовать за все эти годы и что, вероятно, показалось бы не менее неожиданным и странным, чем романы Фридерики, будь это изложено в таких же письмах, которые он, как и она, просил бы сжечь, не читая. Поэтому он не счел возможным упрекнуть ее в скрытности, в которой был столько же, если не больше, повинен и сам.