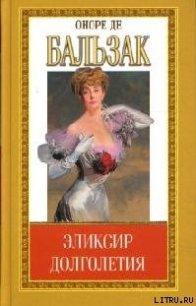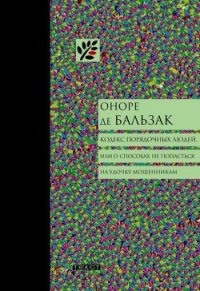Крестьяне - де Бальзак Оноре (книга регистрации .TXT) 📗
Железный век и век золотой более похожи друг на друга, чем это принято думать: в первом не боятся ничего, во втором боятся всего, но для общества результат, быть может, один и тот же. Присутствие старухи бабки, вызванное скорей нуждою, нежели предосторожностью, только усугубляло безнравственность.
Недаром аббат Бросет, изучив нравы своих прихожан, высказал однажды епископу следующее глубокомысленное замечание:
— Ваше преосвященство, они все сваливают на нищету, но, право же, крестьяне боятся утерять это оправдание своей распущенности.
Хотя всем было известно, какое Тонсары бессовестное и порочное семейство, однако никто не осуждал нравов, царивших в «Большом-У-поении». Приступая к настоящему рассказу, следует раз навсегда разъяснить людям, привыкшим к крепким устоям буржуазных семейств, что в крестьянском быту не очень-то щепетильны по части морали. Родители обольщенной дочери только в том случае взывают к нравственности, если обольститель богат и труслив. На сыновей, пока государство не отнимет их у семьи, в деревне смотрят как на средство наживы. Корысть завладела всеми помыслами крестьян, после 1789 года в особенности; им не важно, законен ли тот или иной поступок, не безнравственен ли, а только выгоден ли он для них или нет. Нравственность, которую отнюдь не следует смешивать с религией, начинается с достатка: деликатность чувств, которую мы наблюдаем в более высоких сферах, расцветает в душе человека только после того, как богатство позолотит его обстановку. Вполне честный и нравственный крестьянин — редкость. Любознательный читатель поинтересуется, почему это так. Вот основная причина, которой можно объяснить подобное положение вещей: в силу своего общественного назначения крестьяне живут чисто материальной жизнью, весьма близкой к дикарскому состоянию, чему способствует и постоянное общение с природой. Труд, изнуряющий тело, отнимает у мысли ее очищающее действие, тем более у людей невежественных. И наконец, как это высказал аббат Бросет, для крестьянина его нищета все оправдывает.
Никогда не забывая своих собственных интересов, Тонсар выслушивал жалобы каждого и руководил плутнями, выгодными для бедняков. Жена его, женщина с виду добрая, подстрекала местных мошенников своими речами и никогда не отказывала в одобрении и даже в помощи завсегдатаям трактира, что бы они ни затевали против господ. Так в этом кабаке — настоящем осином гнезде — поддерживалась неугасимая и ядовитая, жгучая и деятельная ненависть пролетария и крестьянина к хозяину и богачу.
Благополучие Тонсаров послужило весьма дурным примером. Каждый думал, почему бы и мне, как Тонсарам, не пользоваться дровами из Эгского леса и для стряпни, и для отопления дома? Почему бы не накосить там травы для коровы и не настрелять дичи и для себя, и на продажу? Почему бы, по примеру Тонсаров, ничего не сея, не собирать урожай с чужих полей и чужих виноградников? Вот поэтому-то тайное воровство — порубка лесов и взимание налогов с чужих полей, лугов и виноградников — стало повальным явлением и вскоре превратилось как бы в законное право общин Бланжи, Куша и Сернэ, где находилось Эгское поместье. Язва эта по причинам, о которых будет сказано в свое время и в своем месте, поразила Эгское поместье гораздо сильней, чем владения Ронкеролей и Суланжей. Не подумайте, однако, что Тонсар, его жена, дети и старуха мать в один прекрасный день сознательно решили: «Давайте жить воровством, только, чур, не попадаться». Привычка к воровству развилась у них постепенно. Сначала Тонсары стали подбавлять к хворосту несколько свежесрубленных сучьев; затем они осмелели, воровство стало для них делом привычным, а кроме того, они узнали, что никто их не поймает, так как попустительство входило в планы, которые раскроются в ходе рассказа, и за двадцать лет семейство кабатчика научилось «промышлять» себе дрова, да и вообще почти все нужное для жизни. Началось с потрав, потом пошли злоупотребления при «доборе» колосьев и винограда. А раз уж эта семейка и все прочие местные лодыри вошли во вкус четырех прав, завоеванных деревенской беднотой, нередко превращавшей их в открытый грабеж, то ясно, что отступиться от этих обычаев могла заставить только сила, превосходящая дерзость крестьян.
К тому времени, как начинается этот рассказ, Тонсару было лет пятьдесят; это был рослый и сильный мужчина, склонный к тучности, с черными курчавыми волосами, кирпично-красным лицом, усеянным лиловатыми пятнышками, глазами янтарного оттенка и оттопыренными ушами с широкой кромкой; рыхлый с виду, он отличался, однако, крепким телосложением; лоб у него был вдавленный, нижняя губа тяжело отвисла. Он скрывал свой истинный характер под личиной глупости, сквозь которую иногда поблескивал здравый смысл, походивший на ум, тем более что от тестя он перенял «подковыристую» (пользуясь словарем Фуршона и Вермишеля) речь. Приплюснутый нос, как бы подтверждающий поговорку «бог шельму метит», наградил Тонсара гнусавостью, такой же, как у всех, кого обезобразила болезнь, сузив носовую полость, отчего воздух проходит в нее с трудом. Верхние зубы торчали вкривь и вкось, и этот, по мнению Лафатера [17], грозный недостаток был тем заметнее, что они сверкали белизной, как зубы собаки. Не будь у Тонсара мнимого благодушия бездельника и беспечности деревенского бражника, он навел бы страх даже на самых непроницательных людей.
Если портретам Тонсара и его тестя и описанию кабачка отведены первые же страницы нашего повествования, то поверьте, что и Тонсар, и кабачок, и вся семейка занимают по праву это место. Прежде всего так обстоятельно обрисованный быт Тонсаров типичен для ста других крестьянских семейств, живущих в Эгской долине. Затем Тонсар, хотя он являлся только орудием в руках тех, кого снедала лютая и глубокая ненависть, имел огромное влияние на ход предстоящей битвы, так как был главным советчиком всех недовольных крестьян. В кабачок его, как это будет видно в дальнейшем, постоянно сходились все жаждущие боя, а сам он сделался их предводителем в силу страха, какой внушал местным жителям, и не столько своими делами, сколько тем, что от него можно было ждать чего угодно. Угрозы этого браконьера вызывали такой страх, что ему никогда не приходилось их осуществлять.
У всякого явного или тайного восстания есть свое знамя. Знаменем мародеров, бездельников и пьянчуг стал грозный шест у калитки «Большого-У-поения». В трактире было весело, а веселье — редкая утеха, к которой стремятся как в городе, так и в деревне. Кроме того, на всем кантональном тракте длиною в четыре лье, иначе говоря, на протяжении трех часов езды, если ехать с поклажей, не было другого питейного заведения. Поэтому все, направлявшиеся из Куша в Виль-о-Фэ, непременно заворачивали в «Большое-У-поение» хотя бы для того, чтобы подкрепиться. Там часто бывали и эгский мельник, выполнявший обязанности помощника мэра, и его молодцы. Даже графские лакеи не брезговали этим вертепом, которому дочери Тонсара придавали много привлекательности, и через прислугу в трактире «Большое-У-поение» становилось известным все, что было известно самой прислуге, связывавшей замок с трактиром невидимыми нитями. Хоть ты осыпь прислугу милостями, хоть ты озолоти ее, она всегда будет держать руку народа. Дворня выходит из народа и стоит на его стороне. Этой же круговой порукой объясняется та недомолвка, которая проскользнула в последних словах выездного лакея Шарля, сказанных им журналисту у подъезда замка.
17
Лафатер Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, создатель физиогномики — теории, устанавливающей связь характера с наружностью человека.