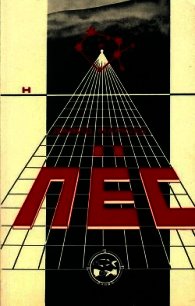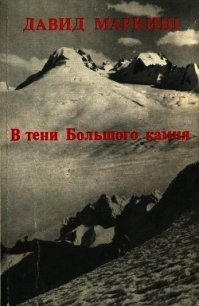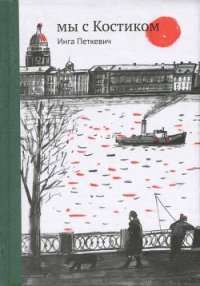Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (полные книги .TXT) 📗
К работе, или, как любил ее называть с оттенком уважительной иронии Вадим, к ремеслу своего друга Наташа относилась с благоговением, как к чуду. Они никогда не обсуждали между собой ни строчки, вышедшей из Вадимовой пишущей машинки: рассказы и наброски Вадима Наташа принимала безоговорочно, как, скажем, лунную дорожку на море, на которую следует молча смотреть, но которую не следует описывать, потому что лучше вот этих двух слов: «лунная дорожка» — все равно не придумаешь. Что же до прозы Вадима, то она была не столь плоха, чтоб о ней многословничать, и не столь хороша, чтоб о ней вовсе молчать, не произнося ни звука.
Деньги в жизни Вадима не занимали никакого места, им не было отведено ни уголка, ни полочки в полупустом шкафу Вадимова быта. И не потому, что их не было у него вовсе; нет, деньги водились. Гонорар капал то за перевод с подстрочника какого-то никому неизвестного татарина или нанайца, то за ответы на письма читателей какого-нибудь толстого литературного журнала, а то и за маленькую рецензию где-нибудь в «Знамени» или в «Дружбе народов». Когда деньги появлялись, Вадим знал точно, что вот они, лежат тоненькой пачечкой в заднем кармане брюк или, смятые в ком, в боковом кармане. А когда они кончались, выструившись до капли, как родник, из темной глуби кармана — тогда и говорить было не о чем. Но Наташа, а до нее и Таня и еще другие, более отдаленные — все они принимали посильное участие в хозяйственной жизни Конуры. Наташа, например, служила корректором в газете «Речник», и ее зарплаты с грехом пополам хватало на каждодневное жевание. За подвал Вадим, естественно, не платил, поскольку не был там прописан. Подвал, где очень хорошо было играть в жмурки даже без повязок, числился нежилой художественной мастерской МОСХа и располагался под ветхим, облезшим и обсыпавшимся трехэтажным домиком на Самотеке, прошловековой постройки. Сложили этот теремок, как видно, сразу после знаменитого московского пожара 1812 года, когда жилищная проблема обострилась. А, может, бывший этот особнячок даже и перестоял пожар, и как раз в его огне дал многочисленные трещины, разбежавшиеся по кирпичным стенкам по всем направлениям… Углубленный же в землю наподобие могилы подвал остался, надо полагать, в стороне от политических и стихийных потрясений эпохи. Спускаясь в подвал в 1812 году или в 1917 году, либо просто за холодным пивком, обитатели дома, со стесненным сердцем, вступали словно бы в преддверие преисподней и на время прерывали связь с не всегда легкой, но привычной жизнью на поверхности земли. Всякое добровольное углубление в недра тревожно и волнительно.
Подспудно тревожился и Вадим, впервые спускаясь по темной и узкой, с выщербленными и вытертыми ступенями лестнице в подвал, который при всяком повороте российской истории вполне сгодился бы для расстреливания людей. Но время и камень точит, и в третье или четвертое посещение художника-нонконформиста он уже привык и не обращал внимания ни на разбойную эту лестницу, ни на мрачные стены, подходящие для нацарапывания на них последних сообщений и проклятий, ни на низкий сводчатый потолок, способный надежно глушить и душить всякий звук — будь то хлопок выстрела, или выстрел пробки из ствола шампанской бутылки, или бессвязное бормотание поспешной любви.
Вселившись в подвал после отъезда художника, Вадим ничего не собирался там менять и переустраивать. На свое новое и случайное жилище Вадим смотрел как на временную остановку в теплом и довольно приятном местечке, ему, Вадиму, не принадлежащем. Оно, собственно говоря, было ничейным — всякий человек мог прийти сюда, поселиться и жить, и он оказался бы здесь на равных правах с Вадимом Соловьевым. Тот факт, что Вадим получил ключ от подвала из рук последнего законного жильца, художника, не имел никакого значения. Любой желающий мог донести на Вадима — вот, мол, живет человек в центре Москвы без прописки — и Вадим был бы выселен, и его неприятности на этом только бы начались. Донести прежде других мог бы, разумеется, дворник, — но дворник не был приписан ко двору кирпичной развалюшки, да и двора-то не было никакого, а был то ли какой-то полупустырь, то ли укромная площадка для прогулок кошек и собак. Управдом — тот уже обязан был донести, но и он не представлял опасности, поскольку власть его распространялась на несколько пятиэтажных многоквартирных домов, а этот бывший особнячок давно уже предназначался на снос и управдом туда не заглядывал, чтоб не выслушивать жалобы законных жильцов на протекшие потолки и лопнувшие трубы.
Таким образом, московское житье-бытье Вадима было вполне налаженным; трехкомнатные родительские хоромы он вспоминал нечасто и с недоброй ухмылкой, отчасти оттого, что там жили тучные супруги Соловьевы, отчасти же оттого, что помещались эти хоромы в городе Киеве: Киев он не любил, да и родителей тоже. Отец, Михаил Матвеевич Соловьев, представлялся ему ничтожеством с ученой степенью доктора философских наук, в вечносинем костюме английского шевиота, из-под которого нагло и в то же время жалко выглядывала украинская сорочка с кисточками, расшитая цветами и петухами. Перед обедом, потирая пухлые веснущатые ладошки, Михаил Матвеевич неизменно выпивал стопку горилки с перцем — хотя спиртного не любил и всерьез никогда не пил. В ресторане, распинаясь в любви к украинской кухне, заказывал галушки — хотя терпеть их не мог, как и всю украинскую кухню. Сидя в гостях или на второстепенном совещании, он мог вдруг, ни с того, ни с сего, замурлыкать «Сижу я в темнице та думку гадаю, — чому я не сокол, чому не летаю» — хотя песен не любил, а Шевченко не перечитывал со школьных лет… Все эти уловки наперечет были известны студентам Института связи, где Михаил Матвеевич руководил кафедрой марксизма-ленинизма, и сеяли сомнения в душах сообразительных хлопцев и девчат: а не примазывается ли профессор? А не Соловейчик ли он? А не Мойше ли Мордкович?
Вадим знал об этих сомнениях, но не знал о том, что есть-таки у нашего забора двоюродный плетень, что затесался-таки в родословную Соловьевых еврей, а то и два. С материнской ветвью дело обстояло еще круче: бабка Вадима, мать Веры Семеновны, была киевской еврейкой и погибла в Бабьем яру. В немецкую комендатуру ее отвел, в соответствии с указаниями оккупационных властей, Вадимов дед, сапожник Семен Нечипоренко. Выполнив свой гражданский долг, дед перебрался в Житомир, где вскоре умер от двустороннего воспаления легких, переживя жену на неполных два месяца. Их дочь Вера в день начала войны была в пионерском лагере и эвакуировалась вместе с ним вглубь российской территории, в Казань. Вернувшись после войны на Украину, она получила на руки справку о том, что ее родители пропали без вести. И так было лучше для всех: для Веры Семеновны, для ее семьи и для отделов кадров.
Вадима коробили неуклюжие отцовские номера с горилкой и вышитыми сорочками. Уже в десятом классе он с огорчением понял, что родители его выпечены из того теста, которое ему, Вадиму, не по вкусу. Ему хотелось бы гордиться высокопоставленным отцом — но Михаил Матвеевич, с его поношенными шутками и затверженными из правильных книг истинами, лишь раздражал его и вгонял в краску. Срезавшись на вступительных экзаменах в университет, он, однако, воспользовался связями отца и без риска поступил на первый курс Института связи. Не попади он в институт — он пошел бы в армию, а этого он не хотел. Отец, таким образом, сослужил ему добрую службу, но Вадим, разглядывая из аудитории его сытый живот, обвисшие мешковатые щеки и петуховую рубашку, не испытывал к нему ничего, кроме протестующей неприязни: тайная признательность подтачивала основы его независимости.
Закончив первый курс, Вадим уехал на каникулы в Москву и не вернулся в Киев. Отец без укоров прислал по почте деньги на обратный билет — Вадим вернул их телеграфом. Отец прислал вторично — Вадим пропил их с приятелями. С первого дня в Москве он попросту забыл о родителях, забыл легко, сладко и, кажется, навсегда. Историю о том, как Вера Семеновна, найдя Вадимов рассказик о запертом в сумасшедший дом правдоискателе, передала тощую стопку страничек отцу, а тот молча и торжественно разорван рукопись в клочья, выбросил в уборную и спустил воду — эту недавнюю историю Вадим связывай и сопоставлял не столько с перепуганными родителями, сколько с вещами в их вылощенной и надраенной квартире: с полированным румынским буфетом, с хрустальными вазами на нем, со всегда прибранными кроватями, более подходящими для торжественной смерти, чем для сна или любви, — как будто это они, эти бездушные и бесполые в своей порядочности предметы уничтожили его свободную мысль, изложенную на пяти страничках. Да и сам Киев был причастен к этой расправе — с его тупой толпой на Крещатике, с его самодовольными соборами и даже с Днепром, бессмысленно текущим под бугром. А Михаил Матвеевич и Вера Семеновна Соловьевы представлялись Вадиму двумя пылинками во всей этой неприятной, опротивевшей среде, оставленной им безвозвратно.