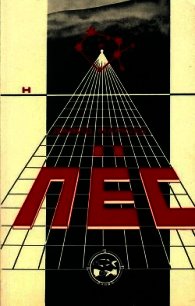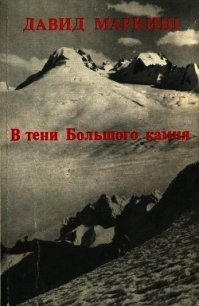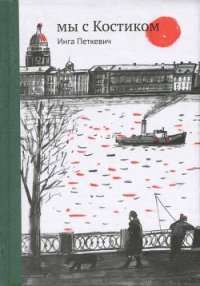Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (полные книги .TXT) 📗
Новые приятели появились быстро. Вадим оброс ими, как обрастает кристалликами инея бутылка водки, вынутая из морозильника. То были сердитые молодые поэты и прозаики, мрачно мечтающие о первой публикации, и голодные, но пьяные художники-нонконформисты, нащупывающие тропу к карманам иностранцев, отечественных снобов и просто богатых дураков. И писатели, и художники шумно пророчествовали за стаканом водки о будущем России, не очень-то, впрочем, веря в сбываемость своих пророчеств. Вадим помалкивал, слушая рассуждения о христианском обновлении, о творческой обработке сибирских топей, о демократической эволюции или о преимуществах просвещенной монархии. Ночуя по приятелям, ворочаясь на пролеженых диванах или брошенных на пол зимних пальто, он разглядывал на стенах случайных чужих домов портреты царя Николая II и Бориса Пастернака, фотографии английской Палаты лордов и советских концлагерей. Наконец, ему добыли пропуск в общежитие Театрального института и он поселился там во временно пустующей комнате и даже обзавелся хозяйством: ветхой пишущей машинкой и спиральным электрокипятильником. Он много писал, пил незапойно, влюблялся безболезненно. Его повесть, написанная от лица мощей в киевской Лавре, появилась в Самиздате и была отмечена как ревнителями свободной российской словесности, так и литературными консультантами КГБ. Да и в кругах официальной литературы о нем заговорили, правда, раздраженным шепотом: вневременная исповедь святых мощей не оставила равнодушными ни мракобесов, ни легальных левых. Одни считали его тайным жидом, присосавшимся к русской культуре, другие — бесстрашным русским патриотом. Он же сам, дыша московским воздухом, не задумывался над своим происхождением и относил себя к москвичам — и только.
Ключ от Конуры пришелся Вадиму как нельзя более кстати: из театрального общежития его давно выселили, а от критика Рыжова он сбежал сам, спасаясь от клопов и круглосуточных разговоров с хозяином и его гостями. Эти разговоры не пройдут даром для Рыжова: его арестуют вскоре после смерти Брежнева и дадут два года тюрьмы и три года ссылки, обвинив его, между прочим, в связи с врагом народа Вадимом Соловьевым.
Поселившись в Конуре, Вадим Соловьев почувствовал себя счастливым и свободным человеком: ему хорошо писалось, и водились у него славные и необременительные приятели, а смена Тани Наташей произошла так плавно и легко, что ничуть не поколебала его устойчивого счастья. Что же до чувства свободы — что ж, он был свободен куда более большинства своих сограждан, хотя бы потому, что способен был чувствовать всеобщую несвободу. Не скованный по рукам и ногам постылой службой, он не воспринимал это как должное, по-хамски — но радовался этому и неназойливо благодарил Бога, к которому обращался изредка, в самых острых случаях, — быть может, оттого, что был человеком совестливым и тактичным. Как всякий советский гражданин, он, естественно, задумывался с холодеющей душою над нависающей сводом угрозой тюрьмы, — но размышлял об этом как о реально существующем, но отдаленном предмете: никто не заговорен от тюрьмы, и не в человеческих силах предотвратить что-либо или предвосхитить. Вон Рожковскому дали три года за стихи, и Мельмана взяли за демдвижение. Но стены Конуры кажутся, все-таки, такими прочными, такими глухими. Авось, минует, пронесет.
Тюрьма, когда он думал о ней и представлял ее себе вживе, пугала Вадима. Она виделась ему столь же неотвратимой и обязательной, как смерть, — и от этого чувства беспомощности перед Тюрьмой Вадиму становилось немного легче, словно бы он, утешая, сам гладил себя по голове… Это, конечно, верно, что в политлагерях сидят самые светлые, самые чистые российские силы. Верно и то, что по ту сторону решетки человек внутренне более свободен, чем посреди так называемой воли, обнесенной частоколом уже вошедших в привычку страхов, — в частности, страха вдруг быть посаженным за решетку, в тюрьму. Более того: посадка в тюрьму, хоть ненадолго, на годик-другой — это как бы знак высшего совершенства, сверкающее клеймо благонадежности в среде вольнодумцев. И, все-таки, вопреки доводам разума, Вадим панически боялся тюрьмы — когда она обретала реальные черты Владимирки или потьминских лагпунктов. Скажи ему кто-нибудь, что вот этой ночью он будет арестован — он, пожалуй, потянулся бы к газовому кранику или веревке. Он готов был жить без сверкающего клейма. С него было достаточно, что ГБ проявляет определенный интерес к нему и к его прозе; и это, несомненно, возвышало его в собственных глазах.
КГБ оставался сказочным драконом со вставными зубами до той поры, пока жил в соседнем лесу. Визит же в Конуру какого-то капитана Романова, мягким голосом пригласившего гражданина Соловьева явиться на Лубянку, оглушил Вадима.
Вадим был дома один, когда пришел мягкоголосый капитан. Переступив порог, он цепко оглядел комнату и, остановившись, наконец, на хозяине, улыбнулся приятной улыбкой. Улыбнулся и Вадим — потерянно, ищуще.
— Ну, вы и забрались! — все улыбаясь, сказал капитан Романов. — Прямо шею можно сломать…
— Да вы садитесь, — сказал Вадим, не двигаясь с места. — Вы…
За этим «Вы» легко угадывалось «Кто же вы?», но Вадим и сам прочитал ответ в этой дружелюбно-покровительственной улыбке, в этом быстром и цепком, как у кошки, оглядывании. Так вот как они, значит, выглядят… Вадим чувствовал внутри себя гулкую литую пустоту, вдруг наступившую.
— Да нет, я ведь по делу, — сняв улыбку с лица, но совсем не грозно сказал капитан Романов. — Завтра… Площадь Дзержинского… подъезд… бюро пропусков…
Слова капитана журчали мимо Вадима, лишь задевая его. Только когда дверь за ним затворилась, Вадим тоскливо сообразил, что не помнит, когда ему надлежит явиться — в десять или в одиннадцать. Он ухватился за эту свою забывчивость, и именно она его угнетала более всего. Ведь, может, этот самый капитан Романов сказал прийти в девять? Или в четыре? Если не прийти вовремя, они наверняка разозлятся. А за что его, собственно, вызывают? Он даже не спросил. А и спросил бы — этот капитан едва ли бы ответил. Неужели посадят? Но тогда зачем сначала вызывают? Э-э, лучше себе голову не ломать — зачем. Жалко только, что не на сегодня вызвали — быстрей бы все это кончилось. Так ведь они, наверно, специально потому и вызвали на завтра, чтоб помучить.
Отойдя, наконец, от двери, он прилег на топчан. Хоть бы пришел кто-нибудь. Или Наташа. Надо непременно с ребятами повидаться, предупредить: если завтра не отпустят оттуда, чтоб сразу передали западным корам. Он, Вадим Соловьев, в конце концов, тоже диссидент. Самиздатский автор, во всяком случае. Хорошо евреям — как кого-нибудь из них заберут, так весь мир об этом кричит, все радиостанции. Но ему, Вадиму, на еврейскую поддержку рассчитывать не приходится, а до русских людей — кому дело?
Он поднялся, пошел на кухню, заварил цейлонского. Хорошо попить чайку. Жалко, водки нет. Вот когда надо, ее всегда и нет.
Он пошел к десяти.
На площади Дзержинского кипела и переливалась толпа, как будто здесь давали растворимый кофе или польские перчатки. Осененный всеми этажами словно бы отлитой из чугуна Лубянки, в центре площади стоял на круглом пьедестале фаллический Дзержинский.
Вадим не спеша, вполшага огибал площадь. У Детского мира он, постояв в очереди, купил эскимо и, откусывая от шоколадного столбика кусочки мороженого, глядел, не переходя улицу, на угловой подъезд Лубянки. Отсюда, не приблизившись еще вплотную и не войдя в подъезд, он придирчиво и пристрастно разглядывал Большой дом, — как вглядывался бы в зоопарке в большого опасного хищника, опершегося сильным плечом о решетку, но остро пахнущего лютой ночной свободой, лесными засадами и смертью, сочащейся бурой кровью. Он даже потянул носом воздух — но не учуял ничего, кроме мертвой вони выхлопных газов. А ему хотелось бы услышать запах звериного логова, убоины и тронутой прелью болотной травы. Он любил запахи, сколько помнил себя — запах жареного мяса и дождевого ветра, подснежников и топленого молока. Дурманящий запах свежего хлеба и дурманный запах женских волос. Он забывал имена и лица случайных и недолгих подружек — и помнил их запахи. Лишенный запахов мир представлялся ему кастрированным гигантом. Он, Вадим, чувствовал бы себя несчастным в таком мире. Утро должно пахнуть утром, ночь — ночью. У всего есть свой запах. Только абсолютное ничто, куда более мертвое, чем смерть, не пахнет ничем.