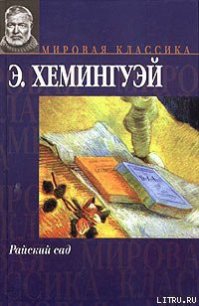Острова в океане - Хемингуэй Эрнест Миллер (читаем книги бесплатно txt) 📗
Его разбудил лунный свет, добравшийся до его изголовья, и он стал думать о Роджере и о тех женщинах, с которыми у него возникали осложнения в жизни. Оба они, и он и Роджер, вели себя с женщинами глупо и неправильно. Думать о собственных глупостях ему не хотелось, и он решил думать о глупостях Роджера.
Жалеть его я не буду, сказал он себе, так что ничего нечестного тут нет. У меня самого достаточно было осложнений, а потому нет ничего нечестного в том, что я думаю об осложнениях, которые были у Роджера. Со мной все это по-другому, я только одну женщину любил по-настоящему, и я ее потерял. Я отлично знаю, почему так случилось. Но об этом я больше не хочу и не стану думать. Так что, пожалуй, не стоит мне думать и о Роджере. Но лунный свет не давал ему уснуть, он всегда плохо спал при луне, и он все-таки стал думать о Роджере и его осложнениях с женщинами, иногда серьезных, иногда смешных.
Он вспомнил последнюю парижскую любовь Роджера — они оба тогда жили в Париже, — как она была хороша и какой фальшивой показалась ему с первого раза, когда Роджер привел ее в мастерскую. Роджер не замечал в ней никакой фальши. Она была его очередной иллюзией, и он щедро тратил на нее талант верности, данный ему природой, — пока не отпали препятствия к их браку. А тогда за один месяц Роджеру открылось в ней то, что всегда было ясно всем, кто ее знал. Вероятно, первый день прозрения был для него нелегким днем, но в мастерскую к Томасу Хадсону он явился тогда, когда процесс уже шел полным ходом. Он долго смотрел новые работы, умно и метко покритиковал их. А потом объявил:
— Я сказал этой Айре, что я на ней не женюсь.
— Рад слышать, — сказал Томас Хадсон. — Она была поражена?
— Не очень. У нас уже были кое-какие разговоры. Она — подделка.
— Да ну, — сказал Томас Хадсон. — В каком смысле?
— Во всех. С какой стороны ни возьми.
— А я считал, что она тебе нравится.
— Нет. Я старался, чтобы она мне понравилась. Но ничего не получалось, разве что в самом начале. Я просто был в нее влюблен.
— А что это значит — влюблен?
— Ты бы должен знать.
— Да, — сказал Томас Хадсон. — Я бы должен знать.
— Разве тебе она не нравилась?
— Нет. Я ее с трудом выносил.
— Почему же ты молчал?
— Она была твоей любовью. И ты меня не спрашивал.
— Я ей сказал. Но нужно, чтобы так на том и осталось.
— Уезжай куда-нибудь.
— Нет, — сказал Роджер. — Пусть она уважает.
— Мне казалось, что так будет проще.
— Этот город столько же мой, сколько ее.
— Знаю, — сказал Томас Хадсон.
— Тебе ведь тоже случалось выходить из игры, верно? — спросил Роджер.
— Да. В этой игре выиграть нельзя. Но выйти из игры можно. Может, тебе стоит хотя бы переменить quartier?
— Мне и здесь хорошо.
— Знакомая формула. Je me trouve tre's birn ici et je vous prie de me laisser tranquille 11.
— Начинается она со слов je refuse de recevoir ma femme 12, — сказал Роджер. — И ее произносят, когда является huissier 13. Но это ведь не развод. Это только разрыв.
— А не будет тебе тяжело встречаться с ней?
— Нет. Это меня быстрей излечит. Особенно если приведется слышать ее разговоры.
— А с ней что будет?
— Пусть сама соображает. Хитрости у нее хватит. Хватало же все эти четыре года.
— Пять, — сказал Томас Хадсон.
— Ну, в первый год она едва ли хитрила.
— Тебе лучше уехать, — сказал Томас Хадсон. — Если ты считаешь, что она не хитрила в первый год, тебе лучше уехать, и подальше.
— Ты не знаешь, какие она умеет писать письма. Если я уеду, будет еще хуже. Нет. Останусь здесь и загуляю вовсю. Это мне поможет излечиться окончательно.
После разрыва с той женщиной в Париже Роджер и в самом деле загулял вовсю. Он сам шутил и смеялся по этому поводу; но внутренне он был зол на себя, что свалял такого дурака, и всячески старался заглушить свой талант быть верным в любви и в дружбе — лучшее, что в нем было; наряду с талантом художника и писателя и со многими славными человеческими и животными чертами. Он всем был неприятен в эту пору загула — и себе и другим, и он это знал, и злился из-за этого, и с еще большим азартом крушил столпы храма. А храм был прекрасный и прочно выстроенный, и такой храм внутри себя нелегко сокрушить. Но он делал для этого все что мог.
У него были три любовницы одна за другой, женщины, с которыми Томас Хадсон мог в лучшем случае оставаться в рамках общепринятой вежливости, причем двух последних можно было объяснить разве что их сходством с первой. Эту первую он завел сразу же после своего неудачного романа; она была вроде бы такого пошиба, до какого он прежде не опускался, однако впоследствии сумела сделать карьеру, и не только в постели, — отхватила кусок одного из крупнейших состояний в Америке, а другое, не меньшее, закрепила за собой посредством законного брака. Ее звали Танис; Томас Хадсон помнил, как Роджер ежился при звуке этого имени и никогда не произносил его сам. Он ее называл суперстервой. Брюнетка с чудесной кожей, она выглядела юным, выхоленным, изощренно-порочным отпрыском фамилии Ченчи. Это было существо с нравственностью пылесоса и душой тотализатора, с хорошей фигурой и с лицом, которому порочное выражение придавало особую прелесть. С Роджером она пробыла ровно столько, сколько ей понадобилось, чтобы приготовиться к начальному скачку вверх.
Она была первой женщиной, бросившей Роджера, а не брошенной им, и это произвело на него такое сильное впечатление, что он нашел себе еще двух, похожих на нее, как сестры. Обеих, впрочем, он бросил сам, бросил почти буквально и, как казалось Томасу Хадсону, испытал от этого облегчение, хоть и не такое уж полное.
Вероятно, есть более тонкие и деликатные способы бросать женщин, чем без всяких ссор и обид попросту спросить разрешения отлучиться в мужскую комнату ресторана «21» и не вернуться назад. Но Роджер уверял, что он, во всяком случае, аккуратно расплачивался по счету, кроме того, ему приятно запомнить спутницу такой, какой он видел ее последний раз — одну за столиком в углу ресторанного зала, в привычной и милой ей обстановке.
Последнюю он хотел было бросить в «Аисте», ее излюбленном ресторане, но побоялся, что это не понравится мистеру Биллингели, а он как раз собирался занять у мистера Биллингели денег.
— Где же ты ее в конце концов бросил? — спросил Томас Хадсон.
— В «Эль-Морокко». Пусть она остается у меня в памяти на фоне полосатых зебр. «Эль-Морокко» она тоже любила. Но заветным ее местечком, пожалуй, был «Кубик».
На смену им пришла одна из самых обманчивых на вид женщин, каких Томас Хадсон встречал на своем веку. Она была полной противоположностью тому типу Ченчи или Борджиа с Парк-авеню, к которому относились предыдущие три. Крепкая, ладная, с рыжеватыми волосами и длинными стройными ногами, с живым умным лицом. Не красавица, но куда привлекательней многих красоток. Особенно хороши были у нее глаза. Она с первого раза покоряла своим умом, обаянием и любезностью и при этом была законченной алкоголичкой. Она не напивалась до безобразия, и пьянство еще не сказалось на ее внешности. Но она уже не могла жить без алкоголя. Обычно пьяницу можно узнать по глазам; у Роджера, например, по глазам сразу было видно, если он запил. Но у этой Кэтлин были удивительно красивые карие глаза, под цвет волос и милой россыпи веснушек на носу и щеках — знак здоровья и добродушного нрава, и по этим глазам ничего нельзя было распознать. Она выглядела как человек, ведущий здоровую жизнь на лоне природы, и как человек, который очень счастлив. А на самом деле она вела жизнь пьяницы. Она мчалась по неизвестной дороге неизвестно куда и на какое-то время прихватила с собой и Роджера.
Как-то утром он пришел в мастерскую, снятую Томасом Хадсоном по приезде в Нью-Йорк, и Томас Хадсон увидел, что вся тыльная сторона его левой руки покрыта ожогами от сигареты. Выглядело это так, как бывает, когда гасят окурок за окурком о крышку стола, только стол заменяла тыльная сторона руки.