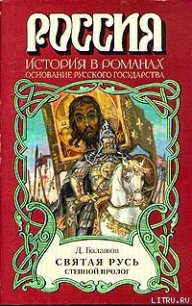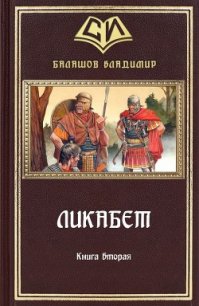Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло - Бертран Алоизиюс (читать бесплатно полные книги TXT) 📗
[II] Два столба, которые было нетрудно и еще менее невозможно принять за баобабы, вырисовывались в долине, ростом выше, чем две булавки. В действительности то были две исполинские башни. И хотя два баобаба не похожи на две булавки, ни даже на две башни, однако, умело использовав хитросплетения осторожности, можно утверждать, не боясь ошибиться (так как, если бы Это утверждение сопровождалось лишь малой крупицей боязни, оно уже не было бы утверждением; хотя неизменно слово, которое выражает два этих душевных явления, достаточно четкие по своим признакам, чтобы не спутать их легкомысленно), что баобаб не отличается чрезмерно от столба и что недопустимо сравнение между этими архитектурными формами… или геометрическими… или той и другой… или ни той ни другой… или, лучше сказать, между формами высящимися и массивными. Я только что обнаружил – и не тщусь провозглашать обратное – эпитеты, подходящие для существительных «столб» и «баобаб»; да будет известно, что не без удовольствия, смешанного с гордостью, извещаю я об этом тех, кто, подняв веки, принял весьма похвальное решение пробежать эти страницы, пока горит свеча – если ночь, пока светит солнце – если день. И вдобавок, пускай даже высшая сила повелела бы нам, в самых ясных по недвусмысленности выражениях, отбросить в пропасти хаоса здравомысленное сравнение, каким всякий, конечно же, мог безнаказанно упиваться, – даже тогда, и прежде всего тогда, надлежит не терять из виду ту решающую аксиому, по которой усвоенные с годами привычки, книги, общение с ближними и характер, присущий каждому и складывающийся в бурном цветении, наложили на человеческий дух несмываемое клеймо рецидива в преступном использовании (преступном, если мгновенно и непроизвольно занять точку зрения высшей силы) риторической фигуры, каковую некоторые презирают, но многие возводят в кумир. Если читатель нашел эту фразу слишком растянутой, пусть он примет мои извинения, но пусть не ждет низостей с моей стороны. Я должен сознаться в своих прегрешениях, но не усугублять их ничтожеством. Мои рассуждения столкнутся подчас с погремушкой безумия и с кажущейся серьезностью того, что, в сущности, лишь гротескно (хотя, согласно некоторым философам, отличить шутовское от меланхолического довольно сложно, поскольку сама жизнь – это комическая драма или драматическая комедия); между тем каждому позволительно убивать мух и даже носорогов, чтобы передохнуть иногда от чересчур непосильной работы. Для того чтобы убивать мух, скорейший, хотя и не лучший, метод таков: давить их между большим и указательным пальцами. Большинство писателей, рассматривавших этот вопрос досконально, рассчитали с немалой правдоподобностью, что в ряде случаев предпочтительнее отрывать им голову. Если кто-либо упрекнет меня в том, что я толкую о булавках, то есть о предмете решительно малосущественном, пусть беспристрастно заметит, что наизначительнейшие следствия нередко порождаются ничтожнейшими причинами. И чтобы более не выходить за рамки этой бумажной страницы, – не очевидно ли, что многотрудный литературный фрагмент, над которым с начала этой строфы я работаю неустанно, ценился бы, вероятно, меньше, если бы точкой опоры избрал он какой-нибудь щекотливый вопрос из химии или внутренней патологии? К тому же все вкусы верны природе; и когда я сравнил вначале, столь метко, башни с булавками (не думая, разумеется, что однажды меня надумают в этом упрекнуть), я основывался на законах оптики, установивших, что, чем дальше луч зрения от предмета, тем меньше в зрачке отразившийся образ.
То, например, в чем склонность нашего разума к фарсу видит жалкую потугу остроумия, представляется мысли автора по большей части не чем иным, как важной и величаво провозглашенной истиной! О, безрассудный философ, который расхохотался, увидев осла, поедающего смокву! Я ничего не выдумываю: древние книги поведали, в самых обширных подробностях, об этом добровольном и постыдном отречении от человеческого благородства. Лично я не умею смеяться. Я никогда не мог рассмеяться, хотя и пытался неоднократно. Очень трудно научиться смеяться. Вернее же, думаю, чувство брезгливости к этой чудовищности составляет одну из существенных черт моего характера. Так вот, я был свидетелем кое-чего похлеще: я видел смокву, поедающую осла! И тем не менее я не смеялся; воистину, ни одна щечная мышца не шелохнулась. Потребность заплакать овладела мною столь сильно, что глаза мои обронили слезу. «Природа! Природа! – вскричал я в рыданиях. – Ястреб рвет на куски воробья, смоква поедает осла, и солитер ест человека!» Не задаваясь целью продолжать в том же духе, я в глубине души себя спрашиваю: не рассуждал ли я о способах уничтожения мух? Ведь так? И все же сущая правда, что я не рассуждал об истреблении носорогов! Если бы некоторые друзья уверяли меня в обратном, я не стал бы их сл узя ать и вспомнил, что похвала и лесть суть два камня преткновения. Но, чтобы удовлетворить, насколько Это возможно, свою совесть, я не могу удержаться от ссылки на то, что такое рассуждение о носороге увлекло бы меня за пределы терпения и хладнокровия и, в свой черед, обескуражило бы, возможно (наберемся смелости и скажем даже: наверняка), нынешние поколения. После мухи – ни слова о носороге! По крайней мере мне надлежало бы, в качестве приемлемого оправдания, упомянуть поспешно (чего я не сделал!) это непредумышленное упущение, которое не удивит тех, кто изучил досконально действительные и необъяснимые противоречия, гнездящиеся в каждой доле человеческого мозга. Для глубокого и простого ума нет ничего недостойного: ничтожнейший феномен природы, коль скоро есть в нем тайна, станет в мудром неиссякаемой пищей для размышления. Если кто-то видит осла, поедающего смокву, или же смокву, поедающую осла (оба эти случая представляются нечасто, за исключением разве что поэзии), не сомневайтесь, что, поразмыслив две-три минуты, чтобы решить, как вести себя, он покинет стезю добродетели и расхохочется, как петух! И не с точностью ли доказано, что петухи намеренно разевают клюв, дабы подражать человеку и строить мучительную гримасу? Я называю птичьей гримасой то, что носит такое же имя в среде человеческой! Петух не расстается со своей природой не столько по неспособности, сколько из гордости. Научите читать их – они взбунтуются. Это вам не попугай, готовый восторгаться собственной слабостью, невежественной и непростительной! О, мерзостное бесчестье! До чего же мы, когда смеемся, напоминаем козу! Спокойствие чела исчезло, уступив место двум огромным рыбьим глазам, которые (не прискорбно ли?)… которые… которые начинают сверкать, как два маяка. Мне часто придется с торжественностью изрекать суждения самые уморительные… и я не считаю, что это – повод безусловно достаточный, чтобы щерить рот! Я не могу, вы ответите, удержаться от смеха; это нелепое объяснение я принимаю; но пусть в таком случае смех будет меланхолическим. Смейтесь, но в то же время и плачьте. Не можете плакать глазами – что ж, плачьте ртом. Невозможно и это – мочитесь; но предупреждаю: какая-то жидкость в этом случае необходима, чтобы умерить сухость, которую несет в своем чреве смех с запрокинувшимся лицом. Я не дам себя обескуражить забавным кудахтаньем и причудливым ревом тех, кто всегда находит, к чему придраться в характере, не похожем на собственный, поскольку любой является одним из бесчисленных духовных модусов, какие бог, не отступая от первородного образца, создал, дабы властвовать над людскими скелетами. Поэзия до сего времени шла неверным путем; то возносясь к небесам, то припадая к земле, она забыла основы своего бытия и подвергалась, постоянно и не без причины, насмешкам людей достойных. Она лишена была скромности… свойства прекраснейшего, каким обладать должно несовершенное существо! Что до меня, я хочу представить свои достоинства; но я не столь лицемерен, чтобы утаивать свои пороки! Смех, зло, гордыня, безумие, одно за другим, появятся, вслед за чувствительностью и вплоть до любви к справедливости, и послужат примером человеческому изумлению: каждый узнает себя в них не таким, каким должен быть, а таким, каков есть. И однако этот простой идеал, рожденный в моем воображении, превзойдет, может быть, все самое грандиозное и самое сокровенное, что по сей день явила поэзия. Ибо если на этих страницах я и даю проявиться моим порокам, то тем более укрепится вера в мои добродетели, которые я здесь' заставлю блистать и которых сияние вознесу так высоко, что величайшие гении в будущем засвидетельствуют мне свою искреннюю признательность. Таким образом, лицемерие будет решительно изгнано из моего обиталища. В моих песнях пребудет внушительное доказательство силы, способной презреть расхожие мнения. Он поет для себя самого, а не для своих ближних. Он не возлагает меру своего вдохновения на человеческие весы. Свободный, как ураган, он обрушился, выброшенный однажды, на необузданные берега своей ужасающей воли! Никто его не страшит, кроме него самого! Он ополчился победно, в сверхъестественных битвах, на человека и на Творца, как меч-рыба, вонзающая клинок в брюхо кита: да будет проклят – своими детьми и моей костлявой рукой – тот, кто упорствует в непонимании беспощадных кенгуру смеха и доблестных вшей карикатуры. Две исполинские башни вырисовывались в долине; я сказал об этом вначале. Умножая их на два, имели четыре… но я не очень-то хорошо различал необходимость этого арифметического действия. Я продолжал, с горящим лицом, свой путь и восклицал беспрерывно: «Нет… нет… я не очень-то хорошо различаю необходимость этого арифметического действия!» Я уже слышал скрежет цепей и мучительные стенания. Пусть же никто не сочтет возможным, проходя в этой местности, умножать башни на два, чтобы выходило четыре! Кое-кто подозревает, что я люблю человечество, как будто ему довожусь родной матерью, и что я носил его якобы девять месяцев в своем дымящемся чреве: вот почему я более не прохожу в долине, где возвышаются две части множимого!