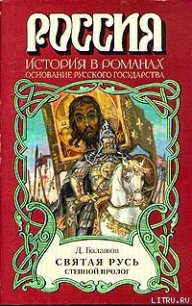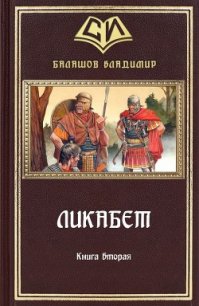Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло - Бертран Алоизиюс (читать бесплатно полные книги TXT) 📗
Артюр Рембо [210]. Озарения
Дюжие бестии. Не один из них грабил ваши миры. Без нужды и не торопясь пускать в ход свою великолепную хватку и знание ваших душ. Что за зрелый народ! Глаза с придурью, наподобие летней ночи, красные и черные, трехцветные или как сталь в крапинах золота звезд; тип лица деформированный, свинцовый, обескровленный, выжженный; хрипотца разудалая! Свирепая поступь лохмотьев! – Есть и юнцы – как взглянут они на Херувима? – наделенные устрашающим голосом и кое-какими опасными средствами. Их посылают в город пообтрепаться, вырядив в тошнотворную роскошь.
О, жесточайший Рай разъяренной гримасы! Ни тени от ваших Факиров и прочей сценической буффонады. В костюмах, сметанных со вкусом дурного сна, они разыгрывают плач, трагедии побродяг и духовных полубогов, каких никогда не знали история и религии. Китайцы, готтентоты, цыгане, юродивые, гиены, молохи, застарелые сумасбродства, зловещие демоны – они сочетают ухватки народные, материнские со скотскими нежностями и позами. Им безразлично: исполнить новую пьесу или песенку-«душечку». Заправские шарлатаны, они преображают фигуры и место, используют магнетическую комедию. Глаза пылают, кровь звенит, кости ширятся, слезы и алые струйки сочатся. Их насмешка или террор длятся минуту – или целые месяцы.
Лишь у меня есть ключ к этому варварскому параду.
У снежной кромки – высокого роста Творение Красоты. Хрипы смерти, круги приглушенной музыки вздымают, ширят, зыбят, будто призрак, это боготворимое тело; багряные, черные раны вспыхивают на возлюбленной плоти. Жизни присущие краски сгущаются, пляшут и тают вокруг Видения на помосте. И возносятся, рокочут трепеты, и покуда насыщенность этих картин наливается, буйная, смертными хрипами и сиплыми нотами, которые мир, далеко у нас за спиной, мечет в нашу мать красоты, – она отступает, она распрямляется. О, наши кости – их облачило новое влюбленное тело!
О, лицо пепельное, чеканка гривы, руки хрустальные! пушка, на которую должен я рухнуть сквозь побоище веток и легкого воздуха!
В одно прекрасное утро, среди народа кротчайшего, восхитительные мужчина и женщина кричали на городской площади: «Друзья мои, я хочу, чтоб она была королевой!» – «Я хочу быть королевой!» Она смеялась и трепетала. Он обращался к друзьям по таинству, по свершившемуся испытанию. Они млели, прижавшись друг к другу.
И действительно, они пробыли королями все утро, когда карминная драпировка приподнялась] над домами, и весь день до вечера, когда они направились к садовым пальмам.
Когда мир превратится сплошь в темный лес для нашей дивящейся четверки глаз – в одно взморье для двоих прилежных детей, в один мелодический дом для нашей светлой приязни, – я вас отыщу.
Пусть останется в мире одинокий старик, тихий и статный, окруженный «неслыханной роскошью», – и я у ваших ног.
Пусть исполню я все, что вам памятно, – пусть буду той, что умеет скрутить вас, – я вас удушу.
Когда мы куда как сильны – кто пятится? куда веселы – кто никнет посмешищем? Когда мы куда как злы – что с нами сделают?
Рядитесь, пляшите, смейтесь. – Я никогда не смогу вышвырнуть Любовь в окно.
Подружка моя, попрошайка, дитя уродливое! до чего безразличны тебе эти бедняжки, и эти уловки, и мои замешательства! Примкни к нам своим немыслимым голосом – твоим голосом! единственным проблеском в этом подлом отчаянье.
Пасмурность утра, июль. Привкус пепла носится в воздухе, – запах древесный, сыреющий в очаге, – затхлость цветов, – беспутство прогулок, – морось каналов в полях, – почему б, наконец, не игрушки и ладан?
От колокольни к другой натянул я канаты; гирлянды – от окна к окну; золотую цепь – от звезды до звезды; и танцую.
Пруд в вышине дымит беспрерывно. Какая колдунья вот-вот распрямится над белым закатом? Какие лиловые обвалятся кущи!
Покуда общественная казна испаряется в праздниках братства, в облаках гудит колокол розового огня.
Навевая сладостный привкус туши, черный порох нежно дождит надо мной, полуночником. – Я приглушаю свет люстры, бросаюсь ничком на кровать, и, повернувшись к тени лицом, я вижу вас, мои девочки! мои королевны!
Хрустально-серые небеса. Причудливый очерк мостов, то ровных, то вздувшихся или же ниспадающих в угловатом наклоне над первыми, и фигуры их множатся в прочих освещенных обводах канала, но все это такой легкости и длины, что побережья, под грузом туманов, оседают и свертываются. Кое-какие из этих мостов вдобавок нагружены и лачугами. Иные несут мачты, вымпелы, хрупкие поручни. Аккорды встречаются, разбегаясь в миноре; струны вспыхивают с берегов. Различаешь красную куртку, другие, быть может, костюмы и музыкальные инструменты. Народные ль это мелодии, обрывки ли великокняжьих концертов или отзвуки общественных гимнов? Воды серые, синие и шириною с морской рукав.
Белый луч, опустившись с небесных высот, уничтожает эту комедию.
Я – эфемерный и не слишком ворчливый гражданин метрополии, что слывет современной, ибо от прежних вкусов не оставили и следа в меблировке и экстерьере домов, равно как и в плане города. Вы не заметите тут и следа какой-либо суеверной реликвии. Мораль и язык сведены к своему простейшему выражению – наконец-то! Эти мильоны людей, которым не нужно друг с другом знаться, ведут столь тождественно воспитание, работу и старость, что этот ход жизни должен быть во сто крат короче того, какой бредовая статистика обнаруживает у народов на материке. Подобно тому как мне видятся из окна новые призраки, катящие сквозь густую и вечную угольную завесу – наша тень от кущ, наша летняя ночь! – эриннии новые у моего коттеджа, в котором и родина мне, и все мое сердце, поскольку все тут похоже на это вот: смерть без слез, наша рьяная дочь и служанка, Любовь безнадежная и хорошенькое Злодейство, скулящее в уличной слякоти.
Справа летний рассвет пробуждает листья, и дымки, и звуки этой окраины парка, и холмы слева держат в лиловой тени тысячи резвых колей влажноватой дороги. Вереница феерий. И впрямь: повозки, груженные деревянным с позолотой зверьем, шестами и многоцветьем холстин, в тяжелом галопе двадцати пегих цирковых лошадей, – и дети верхом, и взрослые на диковиннейших животных; двадцать возов шишастых, разубранных и цветущих, как древние или из сказок кареты, где полно детворы, разодетой для пригородной пасторали, – и едва ль не гробы под пологом тьмы, несущие плюмажи из эбена, проносящиеся на рысях налитых кобылиц, и синих, и черных.
[210] Артюр Рембо (1854 – 1891) провел детство в городке Шарлевиль, под деспотической опекой матери. Необычайно восприимчивый, с проблесками гениальности ребенок – на фоне самой затхлой буржуазно-мещанской среды: эта реальная антитеза стала истоком творчества Рембо, побудив его искать в поэзии преображения жизни.
Начальный период его творчества (а писать он начал в 1869 г.) окрашен революционным пафосом. Поэт был солидарен с делом Парижской коммуны. Он посвятил ей стихи, которые являются шедеврами бунтарской поэзии («Руки Жан-Мари», «Париж заселяется вновь»). Но эти симпатии, особенно после поражения Коммуны, становятся все белее утопическими: он приходит к теории поэта-ясновидца, ставившей поэтическое творчество выше жизни. В написанных ритмической прозой сборниках «Озарения» и «Сезон в аду» (создавались в 1872 – 1873 гг.) Рембо уклоняется от передачи содержания посредством осмысленных сочетаний слов, внушает читателю свои впечатления с помощью нарочито бессвязных словесных ассоциаций, ритмов, образов. Эти сборники ошеломляют столкновением реалистических тенденций, лиризма, элементов сатиры и афористической насыщенности с алогизмом и экстатической напряженностью.
После создания этих книг Рембо навсегда отрекся от литературы, покинул Европу.
Лирика Рембо оказала огромное влияние на весь ход развития французской (да и мировой) литературы: без его поэзии невозможны были бы достижения Аполлинера и Жува, Элюара и Реверди.
[211] Прекрасное существо (англ.; примеч. переводчика).