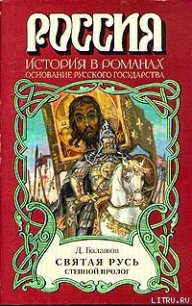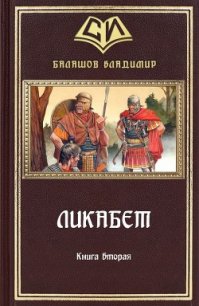Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло - Бертран Алоизиюс (читать бесплатно полные книги TXT) 📗
Все стало – тьма и жгучий аквариум. Поутру – задорной июньской зарей – я унесся, осел, в поля, трубя, потрясая своей обидой, покуда сабинянки из предместья не бросились мне на сивую грудь.
Все чудовищности уродуют свирепую хватку Гортензии. Ее уединенность – механика эротическая. Ее утомленность – динамика любящая. Под присмотром детства она – в многочисленные эпохи – была пламенной гигиеной рас. Ее двери распахнуты нищете. Там нравственность современного люда развоплощается в ее страсть или власть. – О, трепет нещадный желторотых любвей на почве кровавой и в кислородном светле! найдите Гортензию.
Он – преданность и день насущный, ибо выстроил дом, распахнутый пенной зиме и ропоту лета, – он, кем очищены напитки и пища, в ком чарование неразгаданных мест и сверхчеловеческое блаженство стоянок. Он – преданность и день грядущий, сила и любовь, которые видятся нам, застоявшимся в ярости и тоске, на лету в штор мовых небесах и знаменах восторга.
Он – любовь, новонайденная безупречная мера, смысл дивный, нежданный – и вечность: машина возлюбленная роковых совершенств. Все мы познали ужас его безвозбранности с нашей вместе: о, наше ликующее здоровье, порыв способностей, Эгоизм влечения и страсть к нему – тому, кто нас любит во имя своей немеркнущей жизни!…
И мы вспоминаем о нем, и он странствует… Если ж расходится, звенит Осанна, то звенит его весть: «Прочь эти путы суеверий, уютов, эти ветхие тела и лета! С этой эпохой покончено!»
Он не выйдет, не спустится с неба, не искупит гневливости женщин, веселья мужчин и всей этой скверны: ведь это свершилось, ибо он есть и любим.
О, его вихри, липа, концы: в устрашающей смене чистейших форм и движений!
О, неисчерпаемость разума и безбрежность вселенной!
Его тело! вожделенный исход, прибой благодати, скрещенной с новым неистовством!
Его взор, его взор! все былые коленопреклонства и муки возвышены вслед.
Его свет! истребление всяческих звучных и подвижных скорбей в музыке более пламенной.
Его шаг! поступь более неисчислимая, чем нашествия древних.
О, мы и Он! гордость более милостивая, чем благость утраченная.
О, мир! и светлая песнь новых бедствий!
Он всех нас узнал и всех возлюбил. Сумеем же в эту зимнюю ночь, с мыса к мысу, от буйного полюса к замку, из толпы к взморью, от взгляда ко взгляду, почти без сил и без чувств, его окликать, его видеть и с ним расставаться и, под бурунами, на гребне снежных пустынь, настигать его вихри, взоры, его тело и свет.
Шарль Кро [214]. Сандаловый ларец
Комната полна ароматов. На низком столика в корзинках – резеда, жасмин и всевозможные цветочки: красные, желтые и голубые.
Светлоголовые беглянки из страны долгих сумерек, страны грез, – фантазии наводняют мое воображение. Они носятся там и кричат там, и они так толкутся, что мне хочется изгнать их прочь.
Я беру белые-белые, гладкие-гладкие листы бумаги и янтарного цвета перья, порхающие по бумаге с криками ласточек. Я хочу дать беспокойным фантазиям приют ритма и рифмы.
Но вот на бумагу, белую, гладкую, где порхало мое перо, крича, как над озером ласточка, сыплются цветы резеды, жасмина и прочие красные, желтые и голубые цветочки.
Это Она, которой я не заметил, встряхивала над низким столиком букеты в корзинах.
Но фантазии метались по-прежнему и хотели бежать назад. Тогда, забыв, что Она рядом, прекрасная и белоснежная, я сдул цветочки, рассыпанные по бумаге, и стал настигать фантазии, у которых таятся под плащами скиталиц коварные крылья.
Я уже было загнал одну – юную, с зеленым взглядом, дикарку – в тесную строфу.
Но тут Она приблизилась, облокотившись, вплотную ко мне, о низкий столик, так что своей возбуждающей грудью ласкала лощеную бумагу.
Мне оставалась конечная строка, чтобы связать строфу. И вот Она этому помешала, а фантазия с зеленым взглядом умчалась, обронив в зияющей строфе свой плащ скиталицы и немножко перламутра от крыльев.
О, неотвязная!… Я собирался наградить ее поцелуем, которого она ждала, когда непоседливые фантазии, милые, с ароматами далей, беглянки, возобновили пляски в моем воображении.
Так я снова забыл, что Она рядом, белоснежная и обнаженная. Я намеревался замкнуть тесную строфу конечной строкой, несокрушимой, из лучшей стали, цепочкой, черненной золотом звезд, инкрустированной полыханьем закатов, которые отложились у меня в памяти.
И я слегка раздвинул рукой ее вздутую от возбуждающих желаний грудь, которая заслоняла на гладкой бумаге место последней строки. Перо мое вновь отдалось полету, крича, словно ласточка, которая стелется перед грозой над безмятежностью озера.
Но вот Она улеглась, белоснежная, обнаженная и прекрасная, на низком столике под корзинками, закрыв целиком своим дивным и млеющим телом лист гладкой бумаги.
Тогда все фантазии разлетелись далеко-далеко, чтобы более не возвратиться.
Мои глаза, мои губы и руки потонули в ароматических дебрях ее затылка, под цепкой властью ее объятий и на ее вздутой от желаний груди.
И я видел лишь это дивное тело, млеющее, прохладное, гладкое и белоснежное, на которое сыпались из шатающихся корзинок резеда, жасмины и прочие, красные, желтые и голубые, цветочку
Госпоже Моте де Флервиль
Нужны были: глаз самый быстрый, слух самый чуткий, внимание самое пристальное,-
Чтобы я смог разгадать тайну шкафа, проникнуть за горизонт инкрустаций, добраться до вообразимого мира сквозь маленькие зеркальные стекла.
Но я различил наконец заповедное празднество, я расслышал миниатюрные менуэты, я уловил запутанные интриги, какие плетутся в шкафу.
Открываешь створки и видишь как бы гостиную для букашек, замечаешь, в утрированной перспективе, белый, коричневый, черный плиточный пол.
Стекло посредине, стекло справа, стекло слева – как дверцы, ведущие к симметричным подмосткам. В действительности же эти стекла – двери, распахнутые в мир воображения.
Но пустынность явно необычайная; чистота, смысл которой неясен в этой гостиной, где нет никого; роскошь, излишняя в стенах, где царит, по всей видимости, только ночь.
Поддаешься иллюзии; говоришь себе: «Это – шкаф и не более»; полагаешь, что за стеклами нет ничего, кроме глядящих в них и отражающихся предметов.
Внушения, крадущиеся откуда-то; лживость, нашептываемая нашему разуму некой расчетливой хитростью; неведение, в каком нас удерживают определенные интересы, которые не мне называть.
Однако я не хочу больше действовать с оглядкой, я закрываю глаза на последствия, я не тревожусь по поводу злобствующих фантазий.
Когда шкаф закрыт, когда слух докучливых оглушен сном или заполнен внешними звуками, когда наша мысль застревает на каком-нибудь достоверном предмете,
Тогда странные сцены разыгрываются в гостиной шкафа; какие-то личности необычного роста и вида выходят из маленьких стекол; некие группы, озаренные призрачным светом, суетятся в этой утрированной перспективе.
Из глубины инкрустаций, из-за мнимых колонн, из недр искусственных коридоров, устроенных с изнанки дверок,
Выступают, в отживших нарядах, вертлявой походкой, спеша на праздник по внеземному календарю,
Щеголи эпохи сна, девушки, ищущие местечка в этом обществе отражений, и, наконец, престарелые родители, тучные дипломаты и угристые вдовствующие матроны.
[214] Шарль Кро (1842 – 1888), хотя и был связан с парнасцами, но сути дела принадлежал к поколению ранних символистов, но не был понят ни теми, ни другими, оставаясь, по выражению П. Верлена, поэтом «проклятым», т. е. отверженным. Его социальные сим: патин были недвусмысленны: он участвовал в Парижской коммуне, работая в санитарном отряде.
Включенные в раздел «Дополнения» «фантазии в прозе» взяты из сборника «Сандаловый ларец», впервые опубликованного в 1873 г. Посмертно выпущенный в 1908 г. сборник «Ожерелье из когтей» также содержит, помимо стихотворений, образцы «прозаической поэзии» Кро.