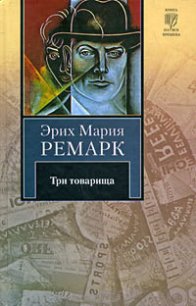Ночь в Лиссабоне - Ремарк Эрих Мария (онлайн книги бесплатно полные .txt) 📗
Чудесный запах старого коньяка и хорошего паштета действовал на Елену, как прощальный привет минувшего золотого века.
Она ела с наслаждением.
– Впрочем, для женщин идея справедливости совсем не так важна, как для вас.
– Что же для вас важно?
– Вот это, – она показала на бутылку, хлеб и паштет. – Ешь, мой любимый! Мы пробьемся! И через десяток лет это и в самом деле будет выглядеть лишь колоссальным приключением, и мы по вечерам будем рассказывать о нем гостям так часто, что это в конце концов всем наскучит. Питайся, человек с фальшивым паспортом! То, что мы съедим сейчас, нам не придется тащить на себе.
– Мне незачем рассказывать вам все в подробностях, – сказал Шварц. – Вы знаете, что такое путь эмигрантов. На стадионе в Коломбо я пробыл только два дня. Елена попала в тюрьму «Пти Рокет».
В последний день на стадионе появился хозяин нашей гостиницы. Я увидел его только издали, нам не разрешалось разговаривать с посетителями. Он передал для меня пирог и большую бутылку коньяка. В пироге я нашел записку: «Мадам здорова и в хорошем настроении. Опасности пока нет. Предстоит отправка в женский лагерь где-то в Пиренеях. Письма направляйте на гостиницу. Мадам держится молодцом!» В записку была вложена бумажка поменьше. Я узнал почерк Елены: «Не беспокойся. Ничего опасного. Приключение продолжается. До скорого. Люблю».
Ей удалось прорвать не очень строгую блокаду. Правда, я не мог понять – как. Позже она рассказала, что заявила в тюрьме, будто у нее нет каких-то документов и надо принести их. Ее отправили в гостиницу в сопровождении полицейского. Там она сунула хозяину записку и шепотом объяснила, как переслать мне. Полицейский проявил уважение к делам любви и сделал вид, что ничего не заметил. Вернулась она без документов, но захватила духи, коньяк и корзину с едой. Она любила поесть. Как ей при этом удавалось оставаться стройной – до сих пор не знаю.
Иногда – когда мы еще были на свободе, – просыпаясь ночью, я видел, что ее нет рядом. Тогда с уверенностью можно было идти прямо туда, где мы хранили еду. И она уж наверняка сидела там – в лунном свете, с самозабвенной улыбкой на губах – и поедала лакомый кусочек ветчины или набивала рот остатками десерта, припрятанного с вечера. И запивала все это вином прямо из бутылки. Она была похожа на кошку, у которой ночью вдруг просыпался аппетит. Она рассказывала, как при аресте заставила полицейского ждать, пока не испечется ее любимый паштет в духовке у хозяина гостиницы. Полицейскому, ворча, пришлось подчиниться, потому что идти без еды она отказалась наотрез. А флики note 18 избегали шума и не любили вталкивать кого-нибудь в полицейскую машину силой. Уходя, Елена не забыла захватить также пакетик бумажных салфеток.
На следующий день нас погрузили и повезли на юг, к Пиренеям. Тоскливая, тревожная, смешная и печальная одиссея страха, бегства, бюрократического крючкотворства, отчаяния и любви началась.
12
– Быть может, когда-нибудь наш век назовут эпохой иронии, – продолжал свой рассказ Шварц. – Конечно – не той, прежней, возвышающей душу иронии восемнадцатого столетия, но иронии подневольной, нелепой, большей частью зловещей, отмеченной печатью нашего пошлого времени с его успехами техники и деградацией культуры. Ведь Гитлер не только другим прожужжал уши – он и сам верит в то, что он апостол мира и что войну навязали ему другие. И вместе с ним в это верят пятьдесят миллионов немцев. А то, что только они одни из года в год вооружались, в то время как другие страны не готовились к войне, ничего не меняет в их убеждениях. Нет ничего удивительного в том, что, сбежав из немецких концлагерей, мы смогли приземлиться только во французских. Протестовать было довольно трудно: у страны, которая сражалась не на жизнь, а на смерть, были более важные дела, чем забота о справедливом отношении к каждому эмигранту. Нас не пытали, не душили газами, не расстреливали, нас только держали в заключении – на что же нам было жаловаться?
– Где вы опять встретились с женой? – перебил я.
– Это случилось не так скоро. Вы были в Леверне?
– Нет. Говорят, это был худший из французских лагерей.
Шварц иронически улыбнулся.
– Вы слышали притчу о раках, которых бросали в котел с водой, чтобы сварить? Когда температура поднялась до пятидесяти градусов, они начали возмущаться, что это невыносимо, и вспомнили о чудесных мгновениях, когда было всего сорок. Когда было шестьдесят, они принялись расхваливать доброе время пятидесяти. Потом – при семидесяти градусах – вспоминали про то, как хорошо было в шестьдесят, и так далее. Так вот, Леверне в тысячу раз лучше самого лучшего немецкого концлагеря, точно так же, как концлагерь без газовых камер лучше того, где есть эти камеры. Басню о раках полностью можно перенести на нас.
Я кивнул.
– И что же случилось с вами?
– Начались холода. Одеял у нас не хватало, а угля совсем не было. Всевозможные неудобства человеку переносить труднее, когда он мерзнет. Не стану надоедать вам описаниями того, как мы провели зиму в лагере. Теперь над этим легко иронизировать. Если бы я и Елена признались в том, что мы нацисты, нас сразу бы поместили в специальный лагерь. В то время, как мы голодали, мерзли, болели, в газетах печатались фотографии интернированных немцев, которые не были эмигрантами. Те жили припеваючи, у них было все: стулья, столы, вилки, ножи, кровати, одеяла, столовые. Газеты с гордостью указывали на этот пример гуманного отношения к врагу. А с нами можно было не церемониться, мы были неопасны.
Постепенно я притерпелся ко всему. О понятии справедливости постарался забыть, как мне и советовала Елена. После работы вечер за вечером просиживал я в своем закутке в бараке: метр ширины, два метра длины, охапка соломы – вот и все. Я приучал себя смотреть на эту жизнь как на какой-то переход, который не имеет ничего общего с моим внутренним я. Все совершалось помимо моей воли, а я, как ученый зверь, только отвечал на то, что делалось. Заботы убивают так же, как дизентерия, от них надо держаться подальше; а справедливость – это вообще роскошь, о которой можно говорить только в спокойные времена.
– Вы в самом деле думали так? – спросил я.
– Нет, – покачал головой Шварц. – Эту мысль я час за часом, день за днем должен был вдалбливать себе. Потому что больнее всего ранит мелкая, а вовсе не большая несправедливость. То и дело приходилось отодвигать в сторону небольшие, повседневные обиды из-за меньшего куска хлеба, более тяжелой работы, чтобы в этом ожесточении не потерять из виду главное.
– Значит, вы жили, как ученый зверь?
– Да, – сказал Шварц, – пока не получил первое письмо от Елены. Оно пришло через два месяца, через нашу гостиницу в Париже. Будто в темной, затхлой комнате вдруг распахнулось окно.
Письма приходили нерегулярно, иногда их не было неделями. Странно, в письмах образ Елены как будто двоился. Она писала, что у нее все хорошо, что ее, наконец, перевели в лагерь и она работает на кухне, а позже – в столовой. Два раза ей удалось переслать мне посылку с продуктами – не знаю, с помощью каких уловок и подкупа. И тут же в письмах начало проглядывать и другое ее лицо. Что тут надо было приписать разлуке и своенравию моей фантазии – я не знаю. Вы сами понимаете, как все разрастается в неволе, когда у тебя нет ничего, кроме пары писем.
Незначительная фраза, написанная безо всякого умысла, покажется вдруг молнией, разрушающей жизнь. А другая становится источником радости на целые недели, хотя и она проскользнула случайно, без определенного намерения.
Как-то пришла фотография: Елена стоит у барака, рядом с ней женщина и мужчина. Она писала, что это французы из персонала лагеря.
Шварц вскинул глаза:
– Как я вглядывался в лицо мужчины! Я выпросил у часовщика увеличительное стекло. Я не понимал, зачем Елена прислала мне этот снимок. Сама она, наверно, ничего не думала при этом. Или, может быть, все-таки… Я терялся в догадках. Вам знакомо это?
Note18
жаргонное название французских полицейских