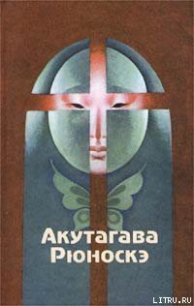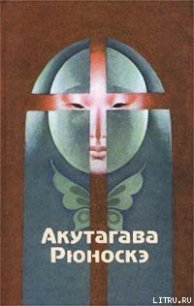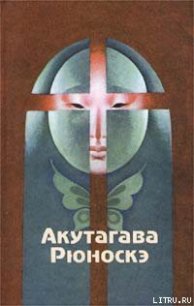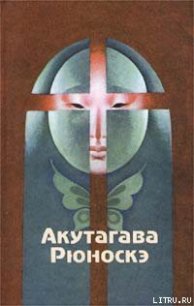Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца - Приставкин Анатолий Игнатьевич (читаем книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
— Во, Серый дает! Качает, сучка, права! Родился, говорит, так подай, что положено! Белое ему подай, он уже серого не хочет!
А я продолжал:
— У нас привычка такая, мы к ресторанам привыкшие! От того самого времени, как на нас «акт» составили, что мы попались!
И тыкал в «акт гражданского состояния», который дала милиция! Ни хрена себе, гражданское! Граждане начальники!
А «спецы», которые ввалились в двери ресторана, кучками, но как бы с оглядкой, чтобы не загребли раньше времени и по шеям не надавали, все читали мой «акт» о рождении и посмеивались. Но скорей от смущения посмеивались, потому что не знали, что им у дверей делать и куда идти. А я стоял и показывал им на картину, которая на стене, кричал:
— Видите! Мишки-то гуляют! А мы чего… Если мы родились, то мы тоже гуляем!
«Спецам» ужасно понравилось, что мы все родились. И они тогда стали повторять и громко вопить:
— Серый! Я сегодня родился тоже!
— И я! И я!
«Свидетельство» отколупали от дверей и стали показывать за столом друг другу, чтобы правда посмотреть, когда я родился, и все, кто пришел, как бы родились тоже. А некоторые для верности, чтобы не забыть стали переписывать и вместо моего имени свое ставили. Они себе сами «Свидетельства» выдали.
Правда, выходило, что их родили мой отец и моя мать (там стояло Антон Петрович и Антонида Григорьевна), но это никого не волновало.
Ведь кто-то их все-таки родил!
В это время понесли жратву: три ведра винегрета, бачок с вареной картошкой и тазик с квашеной капустой. Еще принесли кусками хлеба и сала!
Прямо как при коммунизме!
Я смотрел и удивлялся, что в наших забытых Богом Голяках такое жратье есть! И не успели до нас схавать! Мы-то уж никому ничего не оставим!
На самой любимой в мире картине, хоть я других и не видел, мишки пировали в лесу, может, у них тоже по «акту» день рождения был! Шамовку в лесу давали!
Я смотрел на мишек и на «спецов» смотрел, как они сидели за столом, не зная, что поначалу делают в ресторане на таком празднике: шарапят сразу, а может, ждут, пока им сигнал выйдет! И я им тогда крикнул:
— Братва, жри! Мы родились!
И все тогда набросились и стали хавать, что на столе лежит. А тут скрипач Марк Моисеич заиграл чего-то такое, что жрать стало еще веселей. Он играл, и Роман на баяне играл. А потом скрипач пошел прямо ко мне, я в самом конце стола сидел. Он встал у меня за спиной и заиграл что-то другое, уже не веселое, а грустное. Будто это даже не музыка, а какой-то странный плач по чьей-то жизни, может, даже по моей. Или по остальным тоже. И это было так непривычно, что все хоть и жрали и не торопились оставить свое занятие, но потом удивились и замолчали, уставясь на скрипача. Еще бы, не каждый день такое увидишь! И услышишь!
Господи, что же со мной такое происходило! Может, все думали, что я буду плакать вслед за музыкой, но мне вовсе не хотелось плакать. Я даже о жизни своей не вспоминал!
Я на музыканта не смотрел, а слушал, уставясь в стол. Я знал, что надо что-то о себе вспомнить, но я, честно, ничего не вспомнил.
Я забыл, правда, что я в ресторане, что сижу среди «спецов», мне привиделось, будто я нахожусь у себя дома. А дом мой очень похож на дом Кукушкиной, и столик такой же, на кривых ножках, и диван с зеркальцем, и буфет резной. Все похоже, в общем. А рядом со мной и, конечно, с Кукушкиными сидят отец и мать, и всякая там родня в лице дяди Андрея, который все от смущения потеет и вытирает пот рукавом, и красивой в своем замечательном халате тетки Дильбары. А стол накрыт скатертью, белой-белой, а на скатерти стоит подносик с чашками узорными и с чайником, и еще стоят блины. Сладкие такие блины высокой горкой, по нескольку штук на каждого. Пусть берут, раз пришли, я нежадный!
Но они не едят, а смотрят все на меня, а в их глазах любовь. Никогда это слово не приходило мне на ум. Я даже не знаю, откуда оно во мне взялось. Я ведь про любовь не думал и ничего про нее не знаю. Ну, то есть я, конечно, знаю, что любовь — это когда на экране в конце фильма целуются и пора убираться из зала. Ну и, конечно, в зале взрослые в темноте тоже целуются, и все, когда зажгут свет, делают вид, что они не целовались.
Но вдруг я понял, что любовь, — это когда все родные приходят к тебе домой, чтобы поздравить тебя с рождением!
Не как «пролетарии», которые «всех стран, соединяйтесь». А когда соединяются в твоем родном доме просто люди.
Впрочем, я это все придумал, пока играла скрипка. А на самом деле, конечно, ничего такого никогда не бывает. Дурость, словом. Я опомнился, когда Марк Моисеич отложил смычок и погладил меня по голове. Вот он, наверное, и правда любил меня в этот день! Я поглядел на Кукушат: поняли ли они что-нибудь про любовь или не поняли ничего? И что же они поняли вообще, когда играла скрипка?
Мне изо всех сил захотелось, чтобы они тоже, тоже почувствовали про любовь. Я повернулся к Марку Моисеичу, который инструмент настраивал, дрынькая струной:
— А можно? Для них?
Он наклонил ко мне свою птичью голову, прямо дятел в очках, и переспросил:
— Не расслышал, простите… Чего изволите?
Я повторил громче:
— Я хочу, чтобы для них, для всех, вы чтобы сыграли.. — и добавил для вескости: — Они ведь тоже родились!
И все, слышавшие наш разговор, завопили:
— Мы тоже! Мы тоже хотим! Мы родились! Правда!
Марк Моисеич, наверное, понял, что я очень его прошу Он оглянулся на кричащих, потом пристально посмотрел на меня, о чем-то раздумывая. И вдруг энергично согласился:
— Ну, конечно! Я для них сыграю!
И тут же чиркнул смычком за спиной у Сандры, которая сидела рядом со мной, и снова музыка заплакала. Хотя мне сразу показалось, что она плакала не так, как моя музыка. А по-другому. Но, может, так и должно быть. Что у всех свой плач по любви, который мы не знаем.
И все опять перестали лапать закуску и во все глаза смотрели на Сандру и на скрипача, игравшего теперь у нее за спиной. Я не отрываясь смотрел на Сандру, пытаясь догадаться, кого же она пригласила на свой день рождения.
И вдруг понял: никого!
Сидела одна за белой скатертью и ненавидела всех, кого бы могла пригласить.
А потом Марк Моисеич встал за спиной у Моти и у Корешка. Он им на двоих одно играл, а я сразу понял, что Мотя пригласил всех, всех, кого считал добрыми. И Корешок их всех принимал, потому что все Мотино было и его.
А когда Марк Моисеич оказался перед Хвостиком, тот подскочил и встал прямо перед музыкантом, сияя так, что рот растянулся до ушей. Так они стояли друг против друга, а Марк Моисеич вдруг мудро улыбнулся и заиграл колыбельную: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни…»
А за моим столом, кроме отца, матери, родни и Кукушкиных, оказались все Кукушата. А за ними, в дальнем углу, будто зашел ненароком, присев на краешек стула, товарищ Сталин… Наш родной отец. Он положил на столик перед собою кисет и тихо, скромно посиживал, набивая трубку и кося в мою сторону исподлобья рыжим добрым глазом. А когда все опомнились и захотели ему аплодировать, он отложил трубку и коротким жестом остановил аплодисменты… «Нэ надо… Друзья! Сэгодня нэ мой празднык, сэгодня его празднык… Так давайтэ его поздравым, скажем дорогому Сергэю Егорову, что мы всэ, всэ, кто здэсь пришел, любим его, как сына!»
Да, пока играла скрипочка для Хвостика, но она для меня и для каждого играла, я осознал навсегда, до конца, что мы все любим Сталина, а он любит всех нас и, конечно же, меня. Все могут разлюбить и покинуть, кроме, конечно, Кукушат, но товарищ Сталин никогда! Он всегда и для всех! А то, что мы не попали в Кремль, вовсе ничего не значит. Зато его можно пригласить к нам, сюда, на день рождения, как я сейчас пригласил его за мой тайный, никому не зримый, но оттого вовсе не менее реальный стол.