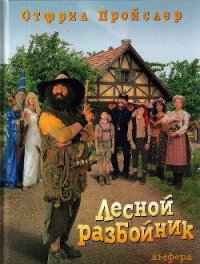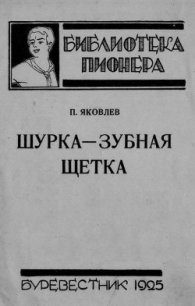Источник. Книга 2 - Рэнд Айн (серия книг .txt) 📗
Он ответил не сразу, он не был готов к этому:
— Что я должен простить?
— Все. И сегодняшнее тоже.
— Ты имеешь на это право. На этом условии ты вышла за меня замуж. Чтобы заставить меня расплатиться за «Знамя».
— Я больше не хочу этого.
— Почему же?
— Потому что за это нельзя расплатиться.
В наступившем молчании она прислушивалась к его шагам за своей спиной.
— Доминик, в чем же дело?
— Пока существует этот предел, настоящей боли нет? Пустое. Просто ты не имел права говорить это. Тот, кто имеет такое право, платит за него, а ты не можешь себе этого позволить. Но теперь это неважно. Говори, если хочешь. Я тоже не имею права на эти слова.
— Это не все.
— Мне кажется, у нас много общего. Мы оба когда-то совершили предательство. Может быть, предательство — не то слово?.. Да нет, пожалуй, то. Оно передает мое состояние.
— Доминик, этого не может быть!
Его голос звучал странно. Она повернулась к нему:
— Почему?
— Потому что сегодня мне подумалось то же: я изменил, предал.
— Предал кого?
— Не знаю. Будь я верующим, я бы сказал: Бога. Но я не религиозен.
— Я чувствую именно это: я предала.
— Но ведь «Знамя» не твое детище.
— Вину можно чувствовать и по другим причинам.
Он подошел к ней и, обняв ее, сказал:
— Ты не понимаешь смысла слов, которые употребляешь. У нас очень много общего, но в этом мы разные. Я предпочел бы, чтобы ты презрительно отвернулась от меня, чем делила со мной вину.
Она прижала ладонь к его щеке, касаясь виска кончиками пальцев.
— А теперь ты скажешь мне, что случилось?
— Ничего. Я взвалила на себя ношу не по силам. Ты устал, Гейл. Почему бы тебе не пойти наверх? Позволь мне ненадолго остаться здесь, просто посмотреть на город. Потом я приду к тебе, и со мной все будет в порядке.
IX
Доминик стояла на борту яхты, держась за поручни. Палуба под ногами была теплой, солнце грело голые ноги, ветер продувал тонкое белое платье. Она смотрела на Винанда, растянувшегося перед ней в кресле.
Она думала о том, как он переменился, оказавшись на яхте. Днями напролет во время их летнего круиза она наблюдала за ним. Однажды она видела, как он бежал по палубе, — высокая белая фигура, стремительные, уверенные движения, рука, уверенно и властно схватившаяся за поручень, чтобы рывком ускорить бег. Он не боялся риска. Здесь он не был беспринципным магнатом, властелином газетной империи. Это был аристократ. Она подумала: именно так в молодости люди представляют себе аристократа — блестящий, уверенный в себе, динамичный.
Теперь он сидел перед ней в кресле, и она подумала, что на отдыхе хорошо смотрятся лишь те, для кого отдых — непривычное состояние, у них даже расслабленная поза заряжена целью. Ее многое в нем поражало. Гейл Винанд с его прославленной выносливостью олицетворял не просто удачливого честолюбивого авантюриста, создавшего целую сеть газет; даже сейчас, отдыхая в лучах солнца, он всем своим видом утверждал силу, в нем крылся огромный динамизм, великая первопричина человеческой энергии.
— Гейл, — неожиданно для себя позвала она. Он открыл глаза и взглянул на нее.
— Вот если бы я мог записать твой голос сейчас, — лениво произнес он. — Ты бы сама поразилась, как он прозвучал. Хотел бы я услышать его в спальне.
— Постараюсь повторить, если хочешь.
— Спасибо, дорогая. Обещаю, что не стану этим злоупотреблять и не возьму в голову лишнего. Ты не влюблена в меня. Ты никогда никого не любила.
— Почему ты так думаешь?
— Тому, кого ты полюбишь, не отделаться малой кровью вроде пытки театром и свадебной церемонией. Ты устроила бы ему настоящий ад.
— С чего ты это взял, Гейл?
— А почему ты не спускаешь с меня глаз, с тех пор как мы встретились? Потому что я не тот Гейл Винанд, о котором ты слышала. Видишь ли, я тебя люблю. А любить значит делать исключение. Если бы ты была влюблена, ты бы хотела, чтобы тебя ломали, приказывали тебе и повелевали тобой, потому что в твоих отношениях с людьми это невозможно, ты не можешь допустить этого. И это стало бы особым приношением любимому человеку, тем великим исключением, которое ты захотела бы сделать для него. Но это далось бы тебе нелегко.
— Если это верно, ты…
— Я буду нежным и покорным, к твоему великому изумлению… потому что я самый отъявленный негодяй на свете.
— Я этому не верю, Гейл.
— Не веришь? Я больше не предпоследний человек на свете?
— Больше нет.
— Так вот, дорогая, я он самый и есть.
— Почему ты хочешь, чтобы я так думала?
— Я этого вовсе не хочу. Но я люблю правду. Это единственная роскошь, которой я предаюсь в уединении. Не меняй своего мнения обо мне. Думай так же, как до нашей встречи.
— Гейл, но тебе не это надо.
— Неважно, что мне надо. Я ничего не хочу, только обладать тобою. Не получая ничего. Так должно быть. Если ты начнешь всматриваться в меня слишком пристально, разглядишь такое, что тебе вовсе не понравится.
— Что же?
— Ты так прекрасна, Доминик. Как мило со стороны Бога допустить, чтобы в одном человеке оказались прекрасны и душа, и тело.
— Что же я все-таки могу разглядеть в тебе?
— Понимаешь ли ты, во что на самом деле влюблена? В цельность натуры. В невозможное. В чистоту, последовательность, разум, верность себе, единство стиля как произведение искусства. Все это можно найти только в одном — в искусстве. Но тебе это нужно в жизни. Это твоя любовь. Ну а я, видишь ли, никогда не знал, что такое цельность натуры и что такое преданность.
— Ты уверен, Гейл?
— Ты забыла о «Знамени»?
— К черту «Знамя»!
— Ладно, к черту «Знамя». Как приятно услышать это от тебя. Но «Знамя» не главный симптом. То, что я никогда не старался быть порядочным, не так уж важно. Важно, что я никогда не ощущал потребности в этом. Само понятие цельной и порядочной натуры мне ненавистно. Ненавистен высокомерный характер этой идеи.
— Дуайт Карсон… — сказала она.
Он услышал отвращение в ее голосе и рассмеялся:
— Да, Дуайт Карсон. Человек, которого я купил. Индивидуалист, ставший певцом толпы и, кстати, алкоголиком. Это сделал я, и это хуже, чем «Знамя», правда? Тебе не нравится напоминание об этом?
— Нет, не нравится.
— Однако ты наверняка слышала вопли об этом. И о прочих гигантах духа, которых мне удалось обломать. И никто даже представить себе не может, какое это мне доставляло удовольствие. У меня страсть к этому. Я абсолютно равнодушен к пиявкам вроде Эллсворта Тухи или моего приятеля Альвы, я готов оставить их в покое. Но едва завижу человека чуть большего калибра, как мне неймется сделать из него подобие Тухи. Надо и все тут. Что-то вроде полового влечения.
— Но почему?
— Не знаю.
— Кстати, ты не понимаешь Эллсворта Тухи.
— Возможно. Не думаешь же ты, что я стану тратить нервную энергию на то, чтобы исследовать скорлупку улитки.
— Ты противоречишь себе.
— То есть?
— Почему же ты не захотел уничтожить меня?
— Ты исключение, Доминик. Тебя я люблю. Я должен был полюбить тебя. Но помоги тебе Бог, если бы ты была мужчиной.
— Гейл, но почему?
— Почему я так поступаю?
— Да.
— Это власть, Доминик. Единственное, чего я всегда хотел. Знать, что в мире нет человека, которого я бы не смог заставить делать все, что мне угодно. Все, чего я пожелаю. Человек, которого я не смогу сломать, уничтожит меня. Но я провел годы, устраняя угрозу. Говорят, что у меня нет чести, что жизнь меня обездолила. Однако не так уж она меня обездолила, как думают. Того, чего у меня нет, просто не существует.
Винанд говорил обычным тоном, но вдруг заметил, что она слушает его так, словно он шепчет и ей нужно сосредоточиться и не пропустить ни звука, чтобы понять его.
— В чем дело, Доминик? О чем ты задумалась?
— Я слушаю тебя, Гейл.
Она не сказала, что вслушивалась не только в слова, но и в скрытый в них смысл. Ей вдруг стало ясно, что к каждой произнесенной им фразе что-то примешивалось, хотя она не понимала, в чем он исповедуется.