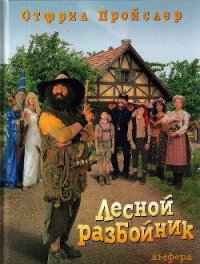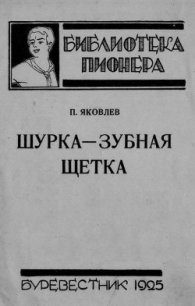Источник. Книга 2 - Рэнд Айн (серия книг .txt) 📗
— Подчинить себе мир, моя дорогая, могут люди вроде меня, а публика вроде Тухи даже мечтать об этом не смеет.
— Постараюсь втолковать тебе, хотя это сложно. Труднее всего объяснить то, что люди отказываются замечать, хотя оно бьет в глаза своей очевидностью. Но если ты готов выслушать меня…
— Не хочу и слышать. Прости меня, но обсуждать Эллсворта Тухи как угрозу просто нелепо. Говорить об этом всерьез оскорбительно.
— Гейл, я…
— Нет, дорогая. Не думаю, чтобы ты хорошо разбиралась в газетном деле. И тебе это ни к чему. Незачем тебе это. Забудь об этом. Предоставь мне заниматься «Знаменем».
— Ты требуешь, Гейл?
— Да, это ультиматум.
— Хорошо.
— Забудь обо всем, не культивируй в себе ужас перед людьми такого калибра, как Эллсворт Тухи. Это не в твоем стиле.
— Хорошо, Гейл. Пойдем в комнату. Тебе здесь холодно без пальто.
Он тихонько хмыкнул — такой заботы о нем раньше за ней не замечалось. Он взял ее руку, прижал к лицу и поцеловал в ладонь.
В течение многих недель, оставаясь наедине, они разговаривали мало — и никогда о себе. Но в молчании не было обиды, молчание основывалось на понимании, слишком деликатном, чтобы его можно было жестко обозначить словом. Они подолгу сидели вдвоем по вечерам, ничего не говоря, каждому было достаточно присутствия другого. Время от времени они обменивались взглядом и улыбались, и улыбка была как рукопожатие.
Однажды вечером она поняла, что он хочет поговорить. Она сидела за туалетным столиком. Он вошел и остановился рядом с ней, прислонившись к стене. Он смотрел на ее руки, на обнаженные плечи, но у нее было ощущение, что он ее не видит; ему виделось нечто большее, чем красота ее тела, большее, чем его любовь к ней; он видел самого себя, и это, она понимала, было несравнимо более высоким признанием.
«Я дышу, потому что это необходимо для моего существования… Я принес тебе не жертву, не сострадание, но собственное Я и свои самые сокровенные желания…» Она услышала слова Рорка, голос Рорка; он сказал это за Гейла Винанда, поэтому она чувствовала, что не предает Рорка, выражая словами его любви любовь другого человека.
— Гейл, — мягко сказала она, — наступит день, когда я должна буду просить прощения за то, что вышла за тебя замуж.
Улыбнувшись, он медленно покачал головой.
Она сказала:
— Я хотела, чтобы ты стал цепью, которая прикует меня к миру. Вместо этого ты оградил меня от мира. Поэтому мой брак стал нечестным.
— Нет. Я сказал тебе, что принимаю любое твое условие.
— Но ты все изменил ради меня. Или я сама все изменила? Не знаю. Мы сделали друг с другом что-то странное. Я отдала тебе то, что хотела отдать, — то особое ощущение жизни, которое, я полагала, должно было исчезнуть с нашим браком. Ощущение жизни высокой. Ты… ты совершил все, что хотела сделать я сама. Ты понимаешь, насколько мы похожи?
— Я знал это с самого начала.
— Но это казалось невозможным. Гейл, я хочу остаться с тобой, но по другой причине. Ждать ответа. Когда я научусь понимать, какой ты на самом деле, я думаю, что пойму и себя. Ответ есть. То, что нас соединяет, должно иметь название. Я его еще не знаю. Но я знаю, что это очень важно.
— Вероятно. Я тоже не прочь понять. Но не понимаю. Теперь меня ничто не беспокоит. Я даже не могу испытать страх.
Она взглянула на него и очень спокойно произнесла:
— А я боюсь, Гейл.
— Чего, милая?
— Того, что я делаю с тобой.
— Почему?
— Я не люблю тебя, Гейл.
— И даже это меня не беспокоит.
Она опустила голову, и он принялся разглядывать ее волосы, похожие на легкий шлем из полированного металла.
— Доминик!
Она послушно подняла на него взгляд.
— Я люблю тебя, Доминик. Я так люблю тебя, что остальное для меня ничего не значит — даже ты сама. Ты можешь это понять? Даже твое безразличие ничего не значит. Я никогда не требовал от жизни многого. Никогда не хотел многого. Честно говоря, я ничего не хотел. Не хотел в самом общем смысле, не испытывал желания, похожего на ультиматум: да или нет, когда нет подобно смерти. Вот чем ты стала для меня. Но когда достигаешь этой стадии, становится уже неважным предмет страсти, важна лишь сама страсть. Способность так сильно желать. Все, что меньше этого, недостойно существования. Я никогда не испытывал этого. Доминик, я не понимал, что значит мое. В том смысле, в каком я говорю о тебе. Мое. Не это ли ты называешь ощущением жизни высокой? Ты так сказала. Я понимаю. Я не боюсь. Я тебя люблю, Доминик… Я люблю тебя… позволь мне повторить это — я люблю тебя.
Она протянула руку к телеграмме, приколотой к раме зеркала, и смяла ее, пальцы ее медленно разминали листок о ладонь. Он прислушивался к шуршанию бумаги. Она склонилась над корзинкой для мусора, раскрыла ладонь, и бумага опустилась в корзинку. На мгновение рука ее с вытянутыми, направленными вниз пальцами застыла в воздухе.
Часть четвертая
ГОВАРД РОРК
I
С деревьев ниспадал струящийся покров листьев, слегка подрагивающий в солнечном свете. Листья утратили цвет, и лишь немногие выделялись в общем потоке такой чистой и яркой зеленью, что резало глаз; остальные были уже не цветом, а светом, воспоминаниями медленно кипящего металла, живыми искрами, лишенными очертаний. Лес как будто превратился в источник света, нехотя бурливший, чтобы выработать цвет, зеленый цвет, поднимавшийся маленькими пузырьками, — концентрированный аромат весны. Деревья, склонившиеся над дорогой, переплелись ветвями, и солнечные зайчики двигались по земле в такт колебаниям ветвей, точно осознанная ласка. Молодой человек начинал верить, что он не умрет, не должен умереть, если земля может так выглядеть. Никак не должен, ведь он слышал надежду и обещание не в словах, а в листьях, стволах деревьев и скалах. Но он знал, что земля выглядит так только потому, что он уже несколько часов не видел следов человека; он был один и несся на своем велосипеде по затерянной тропе среди холмов Пенсильвании, где никогда раньше не бывал и где мог ощутить зарождающиеся чудеса нетронутого мира.
Юноша был очень молод. Он только что окончил университет — этой весной девятьсот тридцать пятого года, — и ему хотелось понять, имеет ли жизнь какую-нибудь ценность. Он не знал, что именно этот вопрос засел у него в голове. Он не думал о смерти. Он думал только о том, что надо найти и радость, и смысл, и основания для того, чтобы жить, а никто и нигде не мог ему ничего подобного предложить.
Ему не нравилось то, чему его научили в университете. Он узнал там многое о социальной ответственности, о жизни, которая есть служение и самопожертвование. Все говорили, что это прекрасно и вдохновляюще. Но он не чувствовал себя вдохновленным. Он вообще ничего не чувствовал. Он, пожалуй, не мог сказать, чего хочет от жизни. Это он и почувствовал здесь, в глуши и одиночестве. Он не воспринимал природу с радостью здорового животного — как нечто само собой разумеющееся и неизменное; он воспринимал ее с радостью здорового человека, как вызов — как инструмент, средство и материал. Поэтому его раздражало, что он может наслаждаться только в глуши, что это большое чувство будет потеряно, когда он вернется к людям. Он подумал, что это несправедливо, он считал труд более высоким уровнем развития по сравнению с природой, а не шагом назад. Ему не хотелось презирать людей; ему хотелось любить их и восхищаться ими. Но он не хотел бы увидеть сейчас дом, бильярдную или рекламный щит, которые могли встретиться на его пути.
У него всегда была потребность сочинять музыку, и он представлял себе то, к чему стремился, в звуках. Если хочешь понять это, говорил он себе, послушай первые аккорды Первого концерта Чайковского или последнюю музыкальную фразу Второго концерта Рахманинова. Люди не смогли найти для этого ни слов, ни дел, ни мыслей, но они открыли для себя музыку. Пусть я услышу ее хоть в одном-единственном творении человека на этом свете. Пусть я пойму то, что обещает эта музыка. Мне не нужны ни служители, ни те, кому служат; ни алтари, ни жертвоприношения, лишь высшее, совершенное, не ведающее боли. Не помогайте мне, не служите мне, но позвольте увидеть это, потому что я в нем нуждаюсь. Не трудитесь ради моего счастья, братья, покажите мне свое счастье — покажите, что оно возможно, покажите мне ваши свершения — и это даст мне мужество увидеть мое.