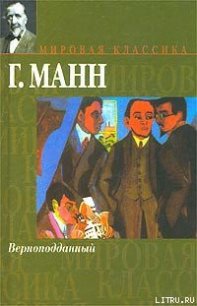Венера - Манн Генрих (книги txt) 📗
— Вы правы, — объявила она. — Мое здоровье прекрасно.
Он отвернулся, побледнев от скорби. Он боялся разразиться рыданиями.
— Но и такое здоровье, как ваше, герцогиня, не следовало бы подвергать в это время года риску климата этого залива. За ним лежат болота: этого не надо даже знать, это чувствуешь обонянием.
— Конечно, альпийский воздух был бы мне полезнее. Я должна была бы поехать в Кастельфранко, в мою прекрасную виллу… Но была ли бы она теперь прекрасна?
— Почему нет?
— Если статуи, которые когда-то были моими ближайшими друзьями, взглянут на меня, как на чужую — нет, я не сделаю этой пробы, Я не хочу ничего вызывать обратно… Как дивно темно было в беседках под дубами! Как качались розы на блестящих верхушках! Фонтаны, аллея молчания, заглохшая лужайка с цоколем в середине — я счастлива, что у меня было все это. А теперь я счастлива тем, что у меня есть теперь. Посмотрите только.
Из сада на террасу с буйной силой ломились мясистые пучки красных растений. Они протискивали свои вздувшиеся чашечки между колонками перил, они влажными клубнями ползали по плитам, липкими дугами изгибались на балюстраде и наполняли сад дымящимся морем крови.
— Это лихорадочные цветы, — сказал Жан Гиньоль.
— Я хочу их, — возразила герцогиня. Он замолчал Они больше не возвращались к этому.
На следующий день приехал Рущук с кипой деловых бумаг, на которые герцогиня бросила равнодушный взгляд. Он остался, и двое мужчин, не имевших во всю свою жизнь ни одной общей мысли, проводили целые часы вместе, когда герцогиня спала, когда она казалась усталой, или же когда нетерпеливо вытягивала руку по направлению к берегу.
— Подите, узнайте, куда идет судно, вот то, голубое, что сейчас снимается с якоря.
Они ежедневно в легком тоне делились своими наблюдениями над тем, как выглядела их возлюбленная. Каждый чувствовал, что другой не может похвастаться перед ним ничем. Они жалели друг друга и иногда доставляли друг другу милостыню разговора с ней наедине. Рущук при одном из таких случаев объявил ей:
— Надо вам знать, что меня, как я ни стар, еще ни одна женщина, в сущности, не заставляла страдать. Вам удалось это сделать.
— Я горжусь этим.
— Я должен обладать вами, герцогиня, иначе желание задушит меня. На моих глазах другие наслаждаются вами — справедливо ли это?..
— Это дается не по заслугам, мой милый.
— Разумеется. Иначе я был бы первым. Разве я не самый старый, самый верный ваш слуга? Но я кое-что придумал. Что, если бы я сделал так, чтобы вы потеряли свое состояние? Для меня это пустяк.
— Вы не сделаете этого. Для этого надо мужество.
— В таких вещах я уже не раз проявлял мужество.
— И потом вы, кажется, стали религиозны.
— Несомненно. Но уступили бы вы моим мольбам, чтобы получить обратно свое состояние?
— Нет.
— Нет? Это удивительно. Не будем больше говорить об этом. Я даже умножаю его, несмотря на вашу расточительность.
— Вот видите.
— Да, я религиозен. Я стараюсь становиться все более достойным дружбы нашего генерального викария.
— Тамбурини? Я не сомневаюсь в успехе ваших стараний.
— И вместе мы не остановимся ни перед чем, чтобы спасти вашу душу. Обратитесь, пока не поздно!
— До свидания, придворный жид, — сказала она.
Он начал вдруг плясать на месте, на котором стоял, с искаженным упрямством лицом.
— Вы раскаетесь в этом, — пробормотал он. — Я не тот, кем вы меня считаете. Я способен на страсть.
— Я знала вас человеком со слишком ясной головой в ту пору, когда вы отреклись от моего потерпевшего крушение дела, когда вы свои политические глупости, совершенные на службе у меня, сумели истолковать, как хитрую измену мне… В сущности, я знаю вас только трясущимся и изобретательным от страха… Подумайте же о здешнем климате.
— Это мне безразлично.
— Вы знаете, что со времени вашего приезда у вас поразительно скверный вид?
— Я и чувствую себя скверно.
— Я советую вам уехать как можно скорее.
— Нет.
— Почему?
— Потому что мне совершенно безразлично, погибну ли я здесь. Я должен обладать вами.
— Это самое важное? А жизнь?
— Вы ведь слышали: я поглощен страстью — что мне жизнь? Мне самому неприятно, что это так; но что я могу поделать?
— Вы рискуете из-за меня? Вы не трус?
Она смотрела на него в упор, она искала в стертых временем чертах старого финансиста чего-нибудь молодого. Она откинулась назад и вздохнула от удовлетворения. «Это хорошо», — сказала она, наслаждаясь тем, что не должна больше презирать.
Он пыхтел от нетерпеливой надежды.
— Ну, что ж, теперь я получу свое?
— Теперь меньше, чем прежде. Вы больше не первый встречный.
— Вот видите, какая вы кокетка! Вы мучите человека до последней возможности. Я понимаю, какое это безумие: любить вас. Вас, который каждый может обладать — только не я. Я хотел бы знать, насколько должен понизиться уровень ваших требований, чтобы очередь дошла и до меня!
Она слушала со спокойной улыбкой. Он не мог больше исказить свой лик, он стал менее безобразен.
Жан Гиньоль сознался однажды, когда они сидели одни:
— И вот я все-таки томлюсь по вас. Вы помните, этого я боялся больше всего.
Она не хотела ничего знать. Опять душа, полная муки! Она упрямо отклонила.
— Я немного устала, я знала слишком много мужчин.
Он багрово покраснел.
— Вы должны понять, как сильно я страдаю от этого, с каким слепым самоотречением я принужден любить вас — после стольких других!
— Я этого не требую.
— Но я сам требую этого! Я не хочу никогда обладать вами! Вы должны быть моим идолом, вы, возлюбленная бесчисленного множества!.. Я больше не хочу даже толковать вас, угадывать вас, давать вам ту или иную форму, как когда-то, когда я знал вас только издали и в глубине самого себя. Я хочу только прислушиваться к невыразимому в вашей душе, — не ища слов для него.
— Чего же вы хотите от меня? Невозможного творения, которого вы никогда не напишете?.. Ах, я знаю все это. Эти мольбы, эти властные требования именем творения, эти экстазы и отрезвления: я уже раз пережила их. В конце концов расстаешься без удовлетворения и с ужасом думаешь о том, как каждый мучил другого.
Она прибавила про себя. «А тебе суждено приходить с твоими домогательствами именно тогда, когда у меня болит каждый нерв и когда одно прикосновение твоих губ к моему рукаву заставило бы меня вскрикнуть».
— Герцогиня, — прошептал он с пересохшим горлом.
— Чего же вы хотите? — медленно спросила она, глядя ему прямо в глаза. И ее взгляд сказал ему, как ужасающе далек он был от нее.
— Я говорю в пространство, — сказал он себе, и ему стало холодно. Но он еще боролся! — Герцогиня, каждая секунда, которую вы проводите в этом лихорадочном воздухе, заставляет меня страдать. Будьте милосердны, позвольте мне увезти вас в какую-нибудь более чистую, более счастливую страну.
— Более счастливую… Вы всегда говорите так, как будто я не счастлива. Вы знаете, что это обидно?
— Я знаю только, что я сам слишком несчастен, и я не могу поверить, что вы можете быть счастливы, раз вы не в состоянии утешить меня, раз вы одиноки и суровы.
Она не ответила.
— Дайте мне надежду, дайте ее себе! Скажите, по крайней мере, что вы хотели бы этого — что вы хотели бы последовать за мной!
Он ждал в тревоге. Наконец, она уронила:
— Это было бы бесполезно… У меня больше нет времени.
Он закрыл лицо руками и отошел от нее. Он сказал беззвучно, вглядываясь в свою душу:
— О! Сознавать, что эта женщина — единственная, — та, в которой я нашел бы снова все, что было в молодости так волшебно светло и что я потерял; та, в которой я был бы одновременно юношей, мужем и старцем. Та, в которой я чувствовал бы вдвойне все, что суждено мне.
Она думала:
«А когда мы говорили друг с другом в первый раз, и ты находил ужасным томиться по мне, тогда я извивалась от желания тебя! Тогда мне хотелось слушать серьезные, нежные слова, положить руки на склоненную передо мною голову и позволить обожать себя. Это было очень давно, ты тогда совершенно не понимал меня».