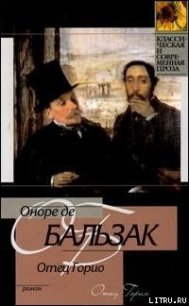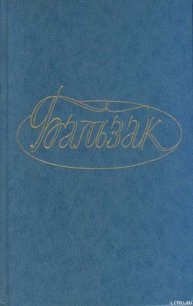Отец Горио (др. перевод) - де Бальзак Оноре (читаем книги txt) 📗
— Клянусь вам, я люблю только одну женщину в мире, — сказал студент, — и я понял это лишь сейчас.
— О! Какое счастье! — вырвалось у папаши Горио.
— Но сын Тайфера, — продолжал студент, — завтра дерется на дуэли, и я слышал, что его собираются убить.
— А вам-то что до этого? — спросил Горио.
— Надо предупредить старика, — вскричал Эжен, — чтобы он помешал сыну отправиться на…
В этот миг его перебил раздавшийся в дверях голос Вотрена, который пел:
— Господа, — крикнул Кристоф, — суп простынет, все уже за столом.
— Вот что, — сказал Вотрен, — принеси-ка бутылочку моего бордо.
— Не правда ли, красивый брегет? — спросил папаша Горио. — У нее хороший вкус!
Вотрен, папаша Горио и Растиньяк спустились вниз одновременно. Они опоздали и очутились за столом рядом. В продолжение обеда Эжен выказывал Вотрену крайнюю холодность, хотя этот человек, столь — обаятельный в глазах госпожи Воке, никогда еще не блистал таким остроумием. Он сыпал остротами и сумел развеселить всех сотрапезников. Его самоуверенность, его хладнокровие изумляли Эжена.
— Вы нынче в ударе! — обратилась к Вотрену госпожа Воке. — Вы веселы, как зяблик.
— Я всегда весел, когда обделаю выгодное дельце.
— Дельце? — повторил Эжен.
— Ну, да. Я поставил партию товара, за которую получу хорошие комиссионные. Мадемуазель Мишоно, — сказал он, видя, что старая дева не сводит с него глаз, — вы так уставились на меня, точно вам в моей физиономии что-то не нравится. Скажите только, и я изменю ее, чтобы вам угодить. Пуаре, мы ведь с вами не поссоримся из-за этого, а? — добавил он, подмигивая старому чинуше.
— Черт возьми! Вы были бы хорошей моделью для балаганного Геркулеса, — сказал Вотрену молодой художник.
— Что ж, идет! Если мадемуазель Мишоно согласится позировать в качестве Венеры с кладбища Пер-Лашез, — отвечал Вотрен.
— А Пуаре? — спросил Бьяншон.
— О, Пуаре должен позировать как Пуаре. Он будет богом садов! — воскликнул Вотрен. — Он происходит от груши [11]….
— От груши с гнильцой! — подхватил Бьяншон. — Итак, вы очутитесь в веселеньком положении между грушей и сыром [12].
— Все это глупости, — сказала госпожа Воке. — Вы лучше бы угостили нас вашим бордо; вот, я вижу, выглядывает горлышко бутылки. Это поддержит наше веселье, да и для желудка пользительно.
— Милостивые государи, — начал Вотрен, — председательница призывает нас к порядку. Госпожа Кутюр и мадемуазель Викторина не обидятся на наши легкомысленные речи; но пощадите невинность папаши Горио. Предлагаю вам бутылораму бордо, которому имя Лафита придает сугубую славу, в чем прошу не усматривать политического намека. Эй ты, чудило, — воскликнул он, глядя на Кристофа, который не двигался с места. — Сюда, Кристоф! Не понимаешь, что ли, что тебя зовут? Волоки, чудило, выпивку.
— Извольте, сударь, — сказал Кристоф, подавая ему бутылку.
Наполнив стакан Эжену и папаше Горио, Вотрен не спеша налил себе несколько капель для пробы, в то время как оба его соседа уже пили, и вдруг брезгливо поморщился:
— Черт подери! Отдает пробкой. Возьми это себе, Кристоф, а нам добудь другого; справа, знаешь? Нас шестнадцать душ, тащи восемь бутылок.
— Коли вы так расщедрились, — сказал художник, — я ставлю сотню каштанов.
— Ого!..
— П-уфф!..
— Пррр!..
Раздались восклицания, посыпавшиеся как ракеты.
— Ну, мамаша Воке, две бутылочки шампанского! — провозгласил Вотрен.
— Ишь чего захотели! Почему не попросить тогда целый дом? Две бутылки шампанского! Да ведь они двенадцать франков стоят! Таких денег у меня нет и в помине! Но, коли господин Эжен соблаговолит заплатить за шампанское, я угощу смородинной.
— Н-да, от ее смородинной слабит, как от ревеня, — пробурчал медик.
— Замолчи, Бьяншон, — вскричал Растиньяк, — когда при мне говорят о ревене, меня воротит… Да, согласен, плачу за шампанское, — добавил студент.
— Сильвия, — сказала госпожа Воке, — подай бисквитики и печенье.
— Ваши бисквитики успели уже вырасти и состариться, — заметил Вотрен, — они обросли бородой [13]. А вот печенье — валяйте!
Минута — и бордо пошло вкруговую, сотрапезники оживились, веселье удвоилось. Все хохотали, как сумасшедшие; передразнивали различных животных. Служащий музея вздумал воспроизвести парижский уличный крик, напоминавший мяуканье мартовского кота, и тотчас восемь голосов заорали разом:
— Точу ножи, ножницы!
— Семя канареечное!
— Дамская отрада! Полный выбор!
— Посуду починяю!
— Вот лодка! Кому лодку!
— Колотушка для фрака и для жены!
— Старье продаем — платье, шляпы, позумент!
— Вишня, вишня сладкая!
Пальма первенства досталась Бьяншону, прогнусавившему:
— Зонтики продаем! Зонтики!
В несколько мгновений поднялся оглушительный гам; несли всякий вздор и паясничали; Вотрен управлял этой шутовской оперой, как дирижер, наблюдая все время за Эженом и папашей Горио, которые, казалось, уже опьянели. Откинувшись на спинки стульев, оба они со степенным видом созерцали этот непривычный кутеж, но пили мало; оба были озабочены тем, что им предстояло сделать в этот вечер, и не имели сил подняться. Вотрен искоса поглядывал на них, следя за менявшимся выражением их лиц; улучив минуту, когда глаза у того и другого стали слипаться, он наклонился к Растиньяку и сказал ему на ухо:
— Мой милый мальчик, вам не перехитрить дядюшки Вотрена, и он вас слишком любит, чтобы позволить вам делать глупости. Когда я на что-нибудь решусь, один лишь боженька может преградить мне дорогу. Ага! Вы хотели предупредить старика Тайфера, хотели наглупить, как школьник! Печь истоплена, опара подошла, хлеб на лопате; завтра мы будем его уплетать за обе щеки; неужели вы хотели помешать посадить его в печь? Нет, нет! Хлеб будет испечен, а коли вас немножко беспокоит совесть, то желудок переварит все. Пока вы будете почивать, полковник граф Франкессини острием своей шпаги откроет вам путь к наследству Мишеля Тайфера. После брата Викторине достанется пятнадцать тысчонок ренты. Я уже навел справки и знаю, что материнское наследство превышает триста тысяч франков…
Эжен слышал эти слова, но не в состоянии был ответить. Язык его словно прилип к гортани, и непреодолимая дрема овладевала им; стол и лица сотрапезников мелькали перед ним, будто в лучезарном тумане. Вскоре шум затих. Столовники один за другим разошлись. Потом, когда в комнате остались госпожа Воке, госпожа Кутюр, мадемуазель Викторина, Вотрен и только папаша Горио, Растиньяк заметил, точно во сне, как госпожа Воке стала собирать бутылки и сливать остатки вина в одну.
— Эх! Молодо-зелено! — приговаривала вдова.
То была последняя фраза, которую мог разобрать Эжен.
— Один только господин Вотрен способен так чудить! — заметила Сильвия. — Смотрите, Кристоф гудит, как кубарь.
— Прощайте, мамаша, — сказал Вотрен. — Я пойду на бульвар, посмотрю господина Марти в «Дикой горе» — это большая пьеса, переделка «Отшельника»… Если угодно, я провожу туда вас вместе с прочими дамами?
— Нет, спасибо, — отозвалась госпожа Кутюр.
— Соседка! — воскликнула госпожа Воке. — Вы отказываетесь посмотреть переделку «Отшельника», произведения, написанного в подражание «Атала» Шатобриана? Мы с таким увлечением читали его, оно так красиво, что этим летом мы плакали под липами, как Магдалины Элодийские; не говорю уже о том, что это произведение нравственное и может быть назидательным для вашей барышни.
11
Игра слов: «lа poire» — груша, в просторечии означает также «простофиля».
12
Непереводимая игра слов. Французское выражение «между грушей и сыром» означает конец обеда или ужина, время десерта, когда веселье подвыпивших гостей достигает высшей точки.
13
Непереводимый каламбур, основанный на том, что «la barbe» означает и «борода» и «плесень».