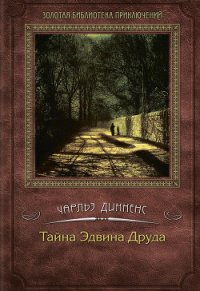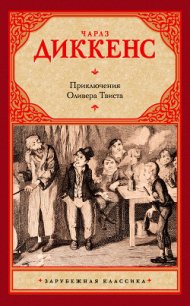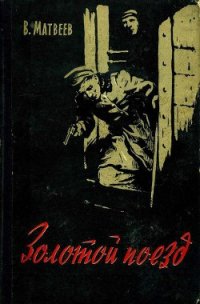Повесть о двух городах - Диккенс Чарльз (лучшие книги TXT) 📗
— Я хочу поблагодарить вас за доверие и быть с вами вполне откровенным. Имя, которое я ношу, это, как вы, может быть, помните, не мое имя. Я взял себе девичью фамилию моей матери, несколько изменив ее. Я хочу открыть вам свое настоящее имя и объяснить, почему я живу в Англии.
— Молчите! — остановил его доктор из Бове.
— Я хочу быть достойным вашего доверия и не иметь от вас никаких тайн.
— Молчите!
Доктор зажал уши обеими руками, а затем поспешно приложил обе руки ко рту Дарнея.
— Вы скажете мне, когда я сам спрошу вас, не раньше. Если ваше предложение будет принято, если Люси любит вас, вы все скажете мне в день вашей свадьбы, утром, перед тем как идти в церковь. Обещаете?
— Конечно.
— Дайте мне вашу руку. Она вот-вот вернется, не надо, чтобы она сегодня видела нас вместе. Ступайте. Да благословит вас бог!
Когда Дарней уходил от доктора, уже темнело; Люси вернулась через час, когда было уже совсем темно. Мисс Просс поднялась к себе, а Люси сразу прошла в гостиную, — и, не застав отца на обычном месте — в кресле у окна, — немного удивилась.
— Отец! — окликнула она. — Папа, милый!
Он не отозвался, но из спальни до нее донеслось тихое постукиванье, словно кто-то работал молотком. Ока тихонько вошла в другую комнату, остановилась у двери, прислушалась, потом, отшатнувшись, бросилась обратно: побелев от ужаса, она растерянно шептала:
— Что мне делать, боже? Что мне делать?
Но это продолжалось недолго; через минуту она уже совладала с собой, бросилась обратно к двери, постучалась и тихонько окликнула его. Стук молотка прекратился, отец вышел к ней, она взяла его под руку, и они вместе стали прохаживаться по комнате и долго ходили в этот вечер взад и вперед.
Ночью она не раз вставала с постели и спускалась к нему посмотреть, как он спит. Он крепко спал; поднос с инструментами и неоконченным башмаком стоял в углу на скамье, как всегда.
Глава XI
То же, но по-другому
— Сидни, — сказал мистер Страйвер своему шакалу (разговор этот происходил в ту же самую ночь, или, вер нее, под утро), — смешай-ка еще пуншу. Мне надо тебе кое-что сказать.
В эту ночь Сидни трудился вдвое больше обычного, так же как и в прошлую и в позапрошлую ночь, и еще несколько ночей до этого, ибо он приводил в порядок дела мистера Страйвера перед долгими летними вакациями. Наконец все было разобрано. Все, что откладывалось со дня на день, было так или иначе распутано и приведено в ясность; и теперь со всем этим было покончено до ноября, когда опять поползут туманы и слякоть и туманно-слякотная судейская волокита снова начнет плодить затяжные выгодные дела.
Но Сидни от такого усердного труда отнюдь не становился бодрее и трезвее. Этой ночью ему пришлось несколько лишних раз обматывать голову мокрым полотенцем, и всякий раз он перед тем пропускал еще стаканчик; сейчас, когда он, наконец, совсем снял с головы свой тюрбан и швырнул его в таз с водой, куда он столько раз окунал его в течение этих шести часов, самочувствие у него было весьма незавидное.
— Ну, как, пунш готов? — спросил тучный Страйвер, который лежал, растянувшись на диване, засунув руки за пояс, и поглядывал по сторонам.
— Мешаю.
— Послушай, Сидни! Я тебе сейчас скажу нечто такое, что тебя чрезвычайно удивит, может быть ты даже подумаешь, что я далеко не так рассудителен, как казалось. Я собираюсь жениться.
— Вот как!
— Да. И не на деньгах. Ну, что ты на это скажешь?
— Я сегодня не очень склонен разговаривать. А кто она такая?
— Отгадай.
— А я что, знаю ее?
— Отгадай!
— Буду я еще гадать в шесть часов утра, когда у меня мозги кипят и голова, кажется, вот-вот лопнет. Если тебе хочется со мной в загадки играть, пригласи обедать.
— Ну ладно, так и быть скажу, — сдался Страйвер и, медленно приподнявшись, с трудом подтянулся и сел. — Только ты, Сидни, вряд ли меня поймешь, ты ведь бесчувственная скотина.
— Где уж мне! — усмехнулся Сидни. — Это ты у нас такая тонкая, возвышенная натура!
— А что! — подхватил Страйвер с самодовольным смешком. — Я, правда, не стремлюсь попасть в романтические герои (не так уж я глуп), но, во всяком случае, я человек более чувствительный, чем ты.
— Более удачливый, ты хочешь сказать?
— Нет, не то. Я хочу сказать, что я человек более… более… как бы это выразиться…
— Обходительный, что ли, — подсказал Картон.
— Да, пожалуй, вот именно — обходительный. Я сейчас тебе объясню, как это надо понимать, — продолжал он, все так же самодовольно поглядывая на приятеля, возившегося с пуншем. — Это значит, что я стараюсь быть приятным, прилагаю для этого некоторые усилия и понимаю, как надо держать себя в дамском обществе, чтобы быть приятным.
— Так-с. Валяй дальше! — буркнул Сидни Картон.
— Нет, прежде, чем я пойду дальше, — важно сказал Страйвер, упрямо мотая головой, — изволь меня выслушать, я уже давно хотел тебе это сказать. Вот ты вместе со мной и даже чаще, чем я, бываешь в доме доктора Манетта. И ведь мне всякий раз стыдно за тебя, каким ты там держишься букой! Сядет, понурив голову, ни с кем слова не скажет и уж до того угрюм, ну, честное слово, Сидни, стыдно смотреть!
— Хорошо, что ты еще не совсем потерял стыд, это тебе весьма пригодится, когда будешь выступать в суде. — заметил Сидни. — Ты должен быть мне благодарен.
— Нет, Сидни, ты от меня так не отделаешься, — не унимался Страйвер, — я считаю своим долгом высказать тебе это прямо и для твоего же блага, Сидни, — ты совершенно не умеешь держать себя в порядочном обществе, ты производишь омерзительное впечатление, ну, просто черт знает что!
Сидни одним духом осушил стакан только что приготовленного пунша и громко расхохотался.
— Ты посмотри на меня! — продолжал Страйвер, выпячивая грудь. — Ведь мне вовсе нет такой надобности, как тебе, стараться быть приятным. Я человек с положением, ни от кого не завишу. А почему-то я все-таки стараюсь?
— Сказать по правде, я что-то этого не замечаю, — пробормотал Картон.
— А потому, что я человек политичный; я это делаю, так сказать, из принципа. И как видишь — преуспеваю.
— Ты отвлекся, — равнодушно сказал Картон, — рассказывай-ка лучше о своих марьяжных делах! А что касается меня, — усмехнулся он, — неужели ты до сих пор не убедился, что я неисправим.
— А ты не имеешь права быть неисправимым, — обрушился на него Страйвер все тем же уничтожающим тоном.
— Существовать я не имею права, вот это будет вернее, — отозвался Сидни Картон. — А кто же эта твоя дама?
— Я тебе сейчас ее назову и боюсь, Сидни, ты почувствуешь себя очень неловко, — отвечал Страйвер примирительным тоном, словно стараясь подготовить приятеля к своему признанию, — ведь ты, я знаю, и половины того не думаешь, что говоришь. Ну, а если ты и в самом деле так думаешь, для меня это не имеет значения. Я только потому тебе все это говорю, что ты однажды несколько пренебрежительно отозвался при мне об этой молодой особе.
— Я?
— Да. разумеется ты, и в этой самой комнате.
Сидни Картон посмотрел на свой стакан с пуншем, затем перевел взгляд на самодовольную физиономию приятеля, залпом осушил стакан и снова уставился на своего самодовольного приятеля.
— Ты назвал эту молодую особу желтоволосой куклой. Эта молодая особа — мисс Манетт. Будь у тебя хоть немножко деликатности, какая-то тонкость чувств и способность разбираться в подобных вещах, я бы, конечно, мог на тебя обидеться за такое неподходящее выражение, но ты всего этого совершенно лишен; поэтому я на тебя не сержусь, как не стал бы сердиться на человека, который, ничего не понимая в живописи, разругал бы мою картину, или, скажем, напиши я музыкальное сочинение, — и его раскритиковал бы человек, напрочь лишенный слуха.
Сидни Картон усердно поглощал пунш; он наливал себе стакан за стаканом и пил, не сводя глаз с приятеля.
— Ну вот, ты теперь все знаешь, Сид, — продолжал мистер Страйвер, — я за деньгами не гонюсь: этакое прелестное, можно сказать, создание — могу же я раз в жизни позволить себе удовольствие; в конце концов денег у меня хватает, почему же себе этого не позволить? А я для нее находка — человек я состоятельный, с положением, дела мои быстро идут в гору, для нее такой муж просто счастье, но она вполне его достойна. Ну, что, здорово я тебя удивил?