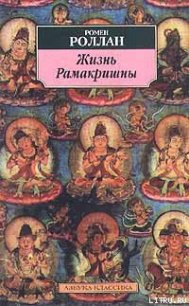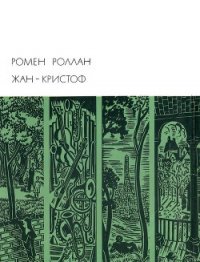Жан-Кристоф. Том III - Роллан Ромен (книги .TXT) 📗
Но пока в их отношения не вмешалось третье лицо, нелады между ними не принимали серьезного характера. Рано или поздно это должно было случиться: слишком многие в нашем суетном мире вмешиваются в дела своих ближних, с тем чтобы их поссорить.
Оливье был знаком со Стивенсами, у которых некогда бывал и Кристоф, и тоже поддался обаянию Колетты. Кристоф не встретился с ним при маленьком дворе своей бывшей приятельницы лишь потому, что в те времена Оливье, удрученный смертью сестры, замкнулся в своем горе и никуда не ходил. Колетта не делала никаких усилий, чтобы его увидеть; ей очень нравился Оливье, но ей не нравились люди несчастные. Она уверяла, что слишком чувствительна и не выносит вида чужой печали. Поэтому она ждала, чтобы печаль Оливье прошла. Когда до нее дошли слухи, что он как будто исцелился и что ей не грозит опасность заразиться, она рискнула подать ему знак. Оливье не заставил себя просить. Он был человеком и нелюдимым и светским, его легко было увлечь, к тому же он питал слабость к Колетте. Когда он сообщил Кристофу о своем намерении вновь посетить ее, Кристоф, слишком уважавший свободу друга, чтобы высказать какое-либо неодобрение, только пожал плечами и насмешливо сказал:
— Ну что ж, иди, мой мальчик, если тебе так хочется.
Однако сам не пошел. Он твердо решил больше не знаться с такими кокетками. Не потому, чтобы он был женоненавистником, — отнюдь нет. Он испытывал особую нежность к молодым женщинам, вынужденным трудиться, к работницам, продавщицам, конторщицам, которые по утрам, полусонные, боясь опоздать, бегут в мастерские и конторы. Женщина казалась ему полноценной, только когда она была деятельна, старалась ни от кого не зависеть, зарабатывала себе на хлеб и отстаивала свою независимость. Больше того, он считал, что только при такой жизни может открыться вся прелесть женщины, проявиться живость и ловкость ее движений, пробудятся все ее чувства и воля, развернутся во всей полноте ее жизненные силы. Он терпеть не мог женщин праздных, ищущих лишь наслаждений, — они представлялись ему нечистыми животными, которые только и знают, что переваривать пищу да скучать, отдаваясь во власть нездоровых мечтаний. Оливье же, наоборот, обожал женщин, предающихся far niente [16], похожих на цветы, которые созданы только для того, чтобы радовать взор своей красотой и прельщать своим благоуханием. Он был больше артист, а Кристоф — человек. Кристоф особенно любил натуры, противоположные Колетте, — тех, на чью долю выпало больше земных страданий. Его как бы связывали с ними узы братского сочувствия.
С тех пор как Колетта узнала о дружбе Оливье с Кристофом, ей нестерпимо захотелось снова увидеться с ним — она жаждала узнать все подробности его жизни. Молодая девушка была еще немного в обиде на Кристофа за ту пренебрежительную легкость, с какою он, казалось, забыл ее; и без всякого желания мстить — месть всегда требует усилий — она с удовольствием подстроила бы ему какую-нибудь каверзу. Так, играя, покусывает кошка, чтобы привлечь к себе внимание. При своем уменье обольщать она легко вызвала Оливье на откровенность. Трудно было найти человека, который был бы так проницателен, как Оливье, по отношению к людям, когда они находились далеко от него; но каким же он становился наивным и доверчивым в присутствии чьих-нибудь ласковых глаз! А Колетта обнаруживала такой искренний интерес к их отношениям с Кристофом, что он размяк, поведал ей историю их дружбы и даже описал некоторые их дружеские стычки, казавшиеся ему теперь забавными и за которые он всецело винил себя. Он открыл ей также творческие замыслы Кристофа и сообщил некоторые из его суждений — притом отнюдь не лестных — о Франции и французах. Все эти сведения сами по себе не имели особого значения, но Колетта поспешила разболтать их, прибавила еще кое-что от себя, не только чтобы придать им большую пикантность, но и потому, что втайне злилась на Кристофа. А так как первым, кому она все это выложила, был, конечно, ее неизменный рыцарь Люсьен Леви-Кэр, не имевший никаких оснований хранить ее рассказы в тайне, то они получили широкую огласку, украсились попутно еще многими подробностями и приобрели оттенок иронической и довольно оскорбительной жалости по отношению к Оливье, которого изображали как жертву Кристофа. Казалось бы, вся эта история мало кого могла интересовать, ибо ее героев почти никто не знал, но таковы уж парижане — они всегда интересуется тем, что их не касается. В результате Кристоф в один прекрасный день услышал свои тайны из уст г-жи Руссен. Встретившись с ним в концерте, она спросила, правда ли, что он поссорился с бедненьким Оливье Жаненом, а затем принялась расспрашивать о его музыкальных произведениях, намекая на такие детали, которые, казалось, могли быть известны лишь ему и Оливье. Когда он спросил ее, откуда ей все это известно, она ответила, что от Люсьена Леви-Кэра, а он узнал это от Оливье.
Кристоф был сражен. Как всегда порывистый и безрассудный, он даже не задумался над тем, насколько правдоподобно это сообщение. Он понимал одно: тайны, которые он доверил своему Оливье, выданы Люсьену Леви-Кэру. Он уже не мог больше слушать музыку и покинул концертный зал. Ему казалось, что все вокруг опустело; он твердил: «Друг предал меня!..»
Оливье был у Колетты. Кристоф заперся на ключ, чтобы Оливье не зашел к нему, как обычно, поболтать перед сном. Он услышал, что Оливье, вернувшись, попытался открыть к нему дверь, а потом через замочную скважину пожелал ему спокойной ночи, но Кристоф не шевельнулся. Он сидел в темноте на кровати, сжав голову руками, и все повторял: «Друг предал меня!..» Так он просидел почти до утра. И тут только он понял, как сильно любит Оливье: он не мог гневаться на него за предательство, а только страдал. Ведь тот, кого любишь, имеет над тобой все права, даже право разлюбить тебя. На него нельзя сердиться, а можно лишь винить себя за то, что ты, верно, недостоин любви, раз он тебя оставил. И это непереносимо больно.
На другое утро, встретившись с Оливье, Кристоф ничего не сказал: всякие упреки казались ему отвратительными, даже упреки в том, что Оливье злоупотребил его доверием и отдал его тайны на посмеяние врагам; Кристоф не мог выдавить из себя ни слова. Но лицо его было красноречивее всяких слов — враждебное, ледяное. Оливье был потрясен; он ничего не понимал и робко попытался узнать, чем недоволен его друг; Кристоф отвернулся и промолчал. Оливье, оскорбленный, тоже смолк и молча предался своему горю. В этот день они больше не виделись.
Но даже если бы друг заставил его страдать в тысячу раз сильнее, Кристоф никогда не стал бы мстить и не стал бы защищаться: Оливье был для него существом священным. Однако его негодование должно было найти себе выход, а так как он не мог излить его на Оливье, то отыгрался на Люсьене Леви-Кэре. Горячий и несправедливый, Кристоф тотчас же свалил на него всю ответственность за вину Оливье; Кристоф испытывал нестерпимую ревность и боль при мысли, что господин подобного сорта мог похитить у него привязанность друга, подобно тому как раньше он разрушил его дружбу с Колеттой Стивенс. В довершение всего Кристофу в тот же день попалась на глаза статья Леви-Кэра о постановке «Фиделио». Критик говорил в ней о Бетховене ироническим тоном и игриво высмеивал героиню, уверяя, что она заслуживает премии Монтиона. Кристоф видел лучше, чем кто-либо, нелепости оперы и даже некоторые погрешности в музыке. Он и сам бывал иногда не слишком почтителен к общепризнанным корифеям. Но он и не притязал на непогрешимую последовательность и чисто французскую логику. Кристоф принадлежал к числу людей, которые сами охотно подмечают ошибки тех, кого любят, но не позволяют этого другим. Впрочем, одно дело критиковать большого мастера, и даже очень резко, как это умел делать Кристоф, движимый слишком пламенной верой в искусство и даже, пожалуй, слишком нетерпимой любовью к славе своего кумира, когда не прощаешь ничего посредственного, а другое — критиковать его, лишь бы попасть в тон низменным вкусам публики, как это делал Леви-Кэр, и смешить галерку, издеваясь над великим художником. Кроме того, каковы бы ни были оценки Кристофа, существовала музыка, которой он втайне отводил особое место и которой не позволял касаться, та музыка, которая была не просто музыкой, а больше и лучше ее — музыкой, созданной великой благодетельной душой, источником утешения, силы и надежды. Такова была музыка Бетховена. И то, что какой-то пошляк смеет поносить ее, выводило Кристофа из себя. Это был уже не вопрос искусства, а дело чести; речь шла обо всем, что придает жизни ценность: о любви, героизме, пылкой добродетели — здесь все ставилось на карту, и нельзя было допускать никаких посягательств на эту музыку, как нельзя в своем присутствии допускать, чтобы оскорбляли уважаемую и любимую женщину, — оскорбитель вызывает ненависть, и его убивают. А в данном случае оскорбителем являлся человек, которого из всех людей на земле Кристоф презирал больше всех!
16
безделью (итал.)