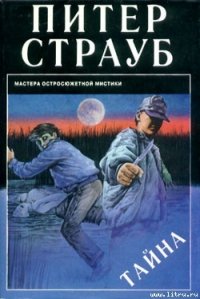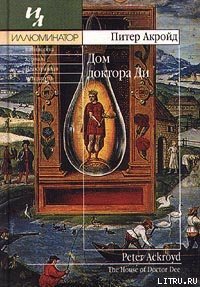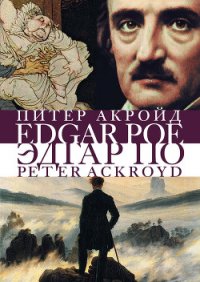Чаттертон - Акройд Питер (мир бесплатных книг TXT) 📗
– Воздействие этой картины, – заговорил он внезапно, – окажется иным, нежели все то, что сейчас доступно нашему пониманию. И вовсе иным, нежели все то, что ты задумываешь, Генри. То же самое происходит с поэмой или романом. – Уоллису померещилось чье-то лицо в подвальном оконце, и он на миг остолбенел. – Конечное воздействие, которое твое творение окажет на мир, никогда невозможно ни предугадать, ни рассчитать, ни подстроить. Мередит смотрел на мутную поверхность воды. – Вот что я разумею под его реальностью… – Где-то отворилась и захлопнулась дверь. – Ее можно только ощутить. Ее нельзя описать словами. – Он помедлил, будто прислушиваясь к звуку чьих-то торопливых шагов. – А все-таки слова нас преследуют, цепляются за нас, дразнят нас.
– Мистер Мередит – минутку, пожалуйста. – Это была мисс Слиммер. Она была еще в нескольких ярдах от них, но шла очень быстро.
– Вот мой пароход, Генри, мне надо поторопиться. Прощай. – Он побежал к причалу, а мисс Слиммер, тяжело дыша, внезапно остановилась.
– Я только хотела передать ему это, – сказала она и протянула томик своих стихов под названием Песни осени. Уоллис пожал плечами и, отвесив учтивый поклон, поспешил уйти прочь.
Но он чувствовал себя слишком неуютно, чтобы возвращаться в мастерскую, и потому отправился к реке. Вдоль ее берега тянулась улочка, по которой он часто прогуливался ранними вечерами; она называлась Уиллоу-Пэссидж – Ивовый Переулок, из-за подстриженных ив, которые росли по обеим ее сторонам, – и ему нравилось сидеть здесь и делать наброски. Он находил, что эти деревья в высшей степени живописны в своей перспективе, и часто с головой уходил в созерцание их общих очертаний, но сегодня вечером ему казалось, будто они ходят ходуном и выворачиваются на ветру несоразмерные, нескладные, просто какая-то возмущенная масса на фоне неба. Обычно он сидел на одном и том же месте, где покрытый травой берег перерастал в невысокий холм, и теперь он поспешил туда в надежде обрести отдохновение от собственных путаных мыслей. Он улегся на мягкую землю, закутавшись в пальто, и праздно, без своего привычного любопытства, воззрился на иву, росшую на противоположной стороне дороги.
Но и лежа там, он начал различать узоры на коре дерева: ее растрескавшаяся пестрая поверхность принимала формы и очертания, которые он не мог не узнать. Потом ему стало казаться, что самих узоров уже недостаточно: их строение и цвет обусловливались как расположением на дереве, так и очертаниями деревьев, тянувшихся по обеим сторонам, и точно так же их тени и оттенки заимствовались у переменчивого света окружающего мира. Но если все это невозможно воспроизвести – ибо разве можно надеяться запечатлеть на холсте саму жизнь, – то как же он сможет изобразить саму человеческую форму? Затем его встревожила и другая мысль: как мог он взывать к душе Чаттертона, если полагал, что сейчас его собственная душа запятнана? Ведь он устремился к Уиллоу-Пэссидж с таким жгучим нетерпением, потому что полагал, что поступил со своими друзьями скрытно или даже обманно: как же такой человек, как он, сумеет живописать человеческое тело во всей его славе?
Он бросил взгляд на темнеющие в сумерках поля Челси, и лишь спустя некоторое время он заметил фигуру женщины; согнувшись, она срезала ивовые прутья с кустов, росших у края канавы за деревьями. Должно быть, она почувствовала на себе его взгляд, ибо в тот же миг выпрямилась и поглядела на него: Уоллис видел, как она откидывает от лица рыжие волосы. И вот уже Мэри Эллен Мередит бежала к нему, вот она говорила: «Я знала, что вы сюда пошли. Я ждала вас». Но он по-прежнему был один. Женщина продолжала смотреть на него, а потом грубо расхохоталась и, подобрав свою корзинку с ивовыми прутьями, поспешила в сторону Пимлико. Его воображение обманулось, вернее, он сам обманул собственное воображение.
На следующее утро он приступил. Он подготовил холст; гипсово-клеевой грунт был теперь совершенно гладким, и, коснувшись его, художник почувствовал, как очертания задуманных образов водят его пальцем… вот здесь будет лежать тело, а здесь бессильно упадет рука. Он принялся смешивать хлопья свинцовых белил с льняным маслом, пока не добился нужной консистенции, а затем поместил краску на промокательную бумагу, чтобы удалить излишек масла. Нет ничего чистого, подумал он, все запятнано. Он взял французскую кисть, окунул ее в краску и начал покрывать холст слоем блестящего белого грунта, двигаясь слева направо, пока подмалевок не был полностью готов. Он отступил назад, чтобы рассмотреть свежеокрашенную поверхность, высматривая трещинки или пятна неровной яркости, но все вышло гладко. Это была стадия, предшествовавшая всякому цвету, и на мгновенье Уоллису захотелось сделать выпад кистью, шлепнуть холст или намалевать на нем какие-нибудь дикие неразборчивые значки, пока это сверканье не будет нарушено и затем навеки погашено.
Однако, наблюдая, как эта абсолютная белизна медленно высыхает на холсте, он уже видел «Чаттертона» как окончательное единство света и тени: рассветное небо вверху картины, смягчающее свет до меццотинто, с листьями розового кустика, обращенными вверх, чтобы отразить его серые и розовые оттенки; тело Чаттертона в середине картины, нагруженной более густым цветом, дабы выдержать натиск этого света; а затем – главная масса темноты, бегущая понизу. Уоллис уже знал, что для Чаттертонова пальто, переброшенного через стул, он возьмет капут-мортуум или красный марс, и что для насыщенного цвета его бриджей понадобится тирийский пурпур. Но эти мощные тени сохранят тонкий контраст с соседними прохладными тонами: серая блуза, бледно-желтые чулки, белизна тела и розовато-белый цвет неба. Затем эти прохладные тона оживят теплый коричневый цвет пола и более темные коричневые тени, падающие на него; а их, в свой черед, уравновесят сдержанные оттенки утреннего света. Так все двигалось к центру – к Томасу Чаттертону. А здесь, в этой неподвижной точке композиции, сочно мерцающее одеяние поэта и его блестящие волосы будут символизировать душу, которая еще не успела покинуть тело; которая еще не отлетела через открытое чердачное окно в прохладную даль нарисованного неба.
Все это ясно предстало перед мысленным взором Уоллиса, и тут же, увидев уже готовую картину, он понял, что на холсте она никогда не будет столь же совершенной, какой пребывала сейчас в его уме. Ему не хотелось терять этого совершенного образа, но в то же время он знал, что, лишь совершив «падение» в зримый мир, она обретет хоть какую-то реальность. Он взял палитру и, сделав быстрый вдох, приступил к работе.
11
Проснувшись, он обнаружил, что сидит у открытого окна: за ним виднелись крыши домов, блестевшие влагой после внезапного ливня, а поверх них возвышался огромный выпуклый купол, медленно превращавшийся в дым. На улице, прямо под окном, замерла, а потом рухнула наземь голубая лошадь. Чарльз открыл рот, чтобы заговорить, и солнечный свет с рыканьем залил стену белого здания; перед ним стоял юноша, улыбавшийся и указывавший на книжку, которая была у него в правой руке. «Как на картине», – сказал он, и все куда-то исчезло. Чарльз удивленно повернул голову и понял, что его куда-то несут на кровати или на носилках. Сбоку от него разговаривали, и он отчетливо расслышал: «На нем была старая одежда, как и на всех остальных».
Он открыл глаза и увидел Эдварда, стоявшего у изножья кровати. «Привет», – сказал он, но не услышал собственного голоса. Затем вдруг левая половина его сына начала распадаться, будто мальчик у него на глазах проходил стадии юности, старости, смерти и разложения. Чарльз попытался поднять руку, чтобы заслонить это зрелище, но не смог ею шевельнуть. Тогда он закрыл глаза. Но так, должно быть, он пролежал недолго, потому что, вновь подняв взгляд, увидел Эдварда на прежнем месте.
– Мам, – сказал тот, – он уже проснулся.
Над Чарльзом склонилась Вивьен, но он видел ее как-то нечетко; казалось, будто левая сторона его лица погружена в тень и он может лишь с надеждой выглядывать из этой тьмы.