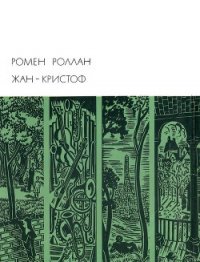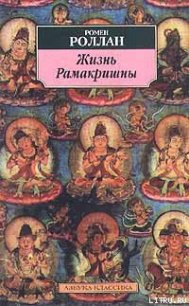Жан-Кристоф. Том II - Роллан Ромен (читать книги txt) 📗
Но подобные приемы выручали Луизу не долго. Однажды вечером, когда она снова пыталась уклониться от решительного разговора, Кристоф собрался с духом и, взяв ее за руку, произнес:
— Мама, я должен тебе что-то сказать.
Луиза вся сжалась, но улыбнулась и спросила:
— Что такое, мой мальчик?
Кристоф, сбиваясь и путаясь, сказал ей о своем намерении уехать. Она попыталась, по обыкновению, отделаться шуткой и заговорила о другом, но он не отступил и высказал все так твердо и серьезно, что всякие сомнения отпали. И Луиза замолчала, сердце ее замерло, — немая и застывшая, она смотрела на сына полными ужаса глазами. И такая боль была в этом взгляде, что слова застряли у Кристофа в горле; оба молча сидели друг против друга. Отдышавшись, Луиза сказала (губы ее дрожали):
— Нет, не может быть… Не может быть…
Две крупные слезы ползли по ее щекам. Кристоф в отчаянии отвернулся и закрыл лицо руками. Теперь плакали оба. Через несколько минут он ушел в свою комнату и больше не показывался. С тех пор они ни разу не коснулись происшедшего. Луиза пыталась истолковать это молчание как уступку со стороны Кристофа. Но жила в вечном страхе.
Наступила минута, когда Кристоф почувствовал, что молчать больше нельзя. Надо было говорить, хотя бы это разбило ей сердце, — уж очень он страдал. Эгоизм взял верх: свои страдания оказались сильнее, чем мысль о страданиях, им причиняемых. И он опять завел речь об отъезде; он сказал все, стараясь не смотреть на мать из боязни смалодушничать. Кристоф даже назначил день отъезда, чтобы больше не возвращаться к разговору. (Он был не уверен, что еще раз найдет в себе печальное мужество, которого набрался сегодня.) Луиза кричала:
— Нет, нет, молчи!..
Кристоф, стискивая кулаки, продолжал с непреклонной решимостью. Кончив, он взял ее руки в свои (Луиза рыдала) и попытался объяснить ей, что отъезд, хотя бы на некоторое время, необходим для его творчества, для всей его жизни. Мать ничего не желала слушать и с плачем твердила:
— Нет, нет!.. Ни за что!..
Все попытки Кристофа уговорить Луизу ни к чему не привели, и он оставил ее в покое, надеясь, что за ночь она образумится. Но когда они наутро встретились за столом, Кристоф снова неумолимо заговорил о своих планах; мать уронила кусок хлеба, который поднесла было ко рту, и промолвила с болью и укоризной:
— Зачем мы меня мучаешь?
Взволнованный Кристоф ответил:
— Мама, дорогая, так нужно.
— Да нет же, нет! — повторяла она. — Не нужно… Ты просто хочешь помучить меня… Это безумие…
Оба хотели высказать каждый свое, но не слушали друг друга. Кристоф понял, что спорить нет смысла, что промедление сулит им лишь новые страдания, и стал, уже не таясь, готовиться к отъезду.
Убедившись, что мольбами сына не удержишь, Луиза впала в унылое оцепенение. С утра до ночи она безвыходно сидела в своей комнате, не зажигала огня при наступлении темноты, не говорила, не ела; ночью Кристоф слышал ее рыдания. Сердце его разрывалось. Снедаемый раскаянием, он чуть не стонал от боли, всю ночь ворочался с боку на бок, не смыкая глаз. Он так любил мать! Зачем ему суждено мучить ее?.. Увы! Не ее последнюю, он это знал… Для чего судьба наделила его жаждой и волей следовать своему призванию и тем обрекла на страдания его близких и любимых?
«Ах! — думал он. — Будь я свободен! Если бы только меня не гнала эта неумолимая сила, это стремление либо стать тем, чем я должен стать, либо умереть от стыда и отвращения к самому себе! Сколько бы счастья я дал всем, кого люблю! Так предоставьте же мне идти своим путем, жить, бороться, страдать, и я вернусь к вам с еще большей любовью в сердце. Как хотел бы я отдаться только одному: любить, любить, любить!..»
Кристоф не в силах был бы вынести укоров этой отчаявшейся души, если бы Луиза таила их про себя. Но малодушная и словоохотливая старушка не умела скрывать переполнявшую ее скорбь. Она поведала свое горе соседкам. Она излила душу двум другим сыновьям. Те ухватились за столь прекрасный повод унизить Кристофа и выразить ему свое порицание. Особенно обрадовался этому поводу Рудольф: его всегда снедала зависть к старшему брату — зависть, бессмысленная при данных обстоятельствах; его выводила из себя малейшая похвала Кристофу; втайне он боялся будущей славы брата, не смея сознаться себе в этой подленькой мысли (он был достаточно умен, чтобы чувствовать силу таланта, и опасался, как бы ее не почувствовали и другие), — словом, Рудольф был счастлив раздавить Кристофа своим превосходством. Сам он, отлично зная, как нуждается мать, никогда о ней не беспокоился; заботу о ней он всецело предоставил Кристофу, хотя имел все возможности помогать ей. Но когда Рудольф узнал о планах Кристофа, он вдруг открыл в себе неистощимые запасы сыновней любви и нежности. Он вознегодовал на Кристофа, который решается покинуть мать, кричал, что это чудовищный эгоизм. Он имел наглость сказать об этом в глаза Кристофу и стал читать ему свысока нравоучение, как мальчишке, заслуживающему розог, бесстыдно напоминая о его долге по отношению к матери, о всех жертвах, которые она ему принесла. Кристоф чуть не задохнулся от ярости. Он пинками выгнал Рудольфа вон, обозвав его шутом и чертовым лицемером. В отместку Рудольф восстановил Луизу против Кристофа. Подстрекаемая им, Луиза вдруг решила, что Кристоф плохой сын. Со всех сторон ей втолковывали, что он не имеет права покидать ее, и она уцепилась за эту мысль. Теперь она действовала не только слезами — своим самым сильным оружием, — она набросилась на Кристофа с несправедливыми упреками, и это его взорвало. Они наговорили друг другу много обидного; и вот Кристоф, который все еще колебался, стал думать об одном: как бы ускорить приготовления к отъезду. Он узнал, что жалостливые соседки проливают слезы над участью его несчастной матери и что во всем их квартале общественное мнение объявило Луизу жертвой, а ее сына — палачом. Он стиснул зубы и твердо решил не уступать.
Время шло. Кристоф и Луиза почти не разговаривали. Им бы наслаждаться этими последними днями совместной жизни, наслаждаться каждой минутой, а эти два любящих существа тратили время на бесплодные размолвки, которые — увы! — слишком часто подрывают самые нежные привязанности. Встречались они только за столом; сидели друг против друга молча, не поднимая глаз, и через силу глотали пищу — не столько для того, чтобы есть, сколько для порядка. Кристоф с трудом выдавливал из себя два-три слова, но Луиза не отвечала; а когда она пыталась завязать разговор, молчал он. Это становилось невыносимо для обоих; и чем дальше, чем труднее было им пересилить себя. Неужели они так и расстанутся? Луиза наконец поняла, что она несправедлива, но взялась за дело неловко: она так страдала, что уж и не знала, как вернуть доверие сына, которого считала потерянным для себя, как помешать разлуке, о которой старалась даже не думать. Кристоф тайком всматривался в посеревшее, распухшее от слез лицо матери и терзался жестокими угрызениями совести; но он твердо решил уехать и, зная, что на карту поставлена вся его жизнь, испытывал трусливое желание поскорее очутиться в пути, бежать от этих мук.
Отъезд был назначен на послезавтра. Только что окончилась одна из их грустных встреч за столом. После ужина, за которым оба не проронили ни слова, Кристоф удалился в свою комнату; он сидел за письменным столом, закрыв лицо руками, не в силах чем-либо заняться, и молча страдал. Было уже поздно — около часу ночи. Вдруг в смежной комнате раздался шум — упал опрокинутый стул. Дверь распахнулась, и мать, в одной рубашке, босая, с рыданием бросилась к нему на шею. Она вся горела, как в лихорадке, целовала сына и, горестно всхлипывая, восклицала:
— Не уезжай! Не уезжай! Умоляю тебя, умоляю! Мой маленький, останься!.. Я умру!.. Я не могу, не могу этого вынести!..
Ошеломленный, испуганный, Кристоф целовал ее, повторяя:
— Мамочка, дорогая, успокойся, прошу тебя!
Но она продолжала:
— Не вынесу я этого… Ты же теперь у меня один. Если ты уедешь, что со мной станется? Я умру, если ты уедешь. Я не хочу умереть без тебя. Не хочу умереть одна-одинешенька. Хоть дождись, пока я умру!..