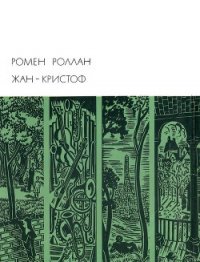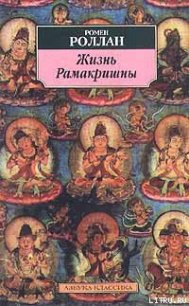Жан-Кристоф. Том II - Роллан Ромен (читать книги txt) 📗
У него разрывалось сердце. Он не знал, что сказать, как утешить ее. Что значили любые доводы перед этой бурей любви и страдания? Он посадил ее к себе на колени, старался успокоить поцелуями и ласковыми словами. Луиза постепенно утихла и только слабо всхлипывала. Когда она немного пришла в себя, он сказал:
— Пойди ложись: ты простудишься.
Она повторила:
— Не уезжай!
Он тихо сказал:
— Я не уеду.
Она задрожала и схватила его за руку.
— Это правда? — спросила она. — Правда?
Кристоф в изнеможении отвернулся.
— Завтра, — ответил он, — завтра скажу… Оставь меня, прошу!..
Мать послушно поднялась и ушла к себе.
Утром ей стало стыдно этого бурного отчаяния, которое овладело ею среди ночи, точно припадок умоисступления; она с трепетом думала о том, что скажет ей сын. Усевшись в уголке, она ждала его. Чтобы не думать, Луиза взялась за вязание, но руки не слушались ее, и клубок упал на пол. Вошел Кристоф. Они почти шепотом, не глядя друг на друга, поздоровались. Он остановился, нахмурившись, подле окна, повернулся спиной к матери и стоял, не говоря ни слова. В его душе шла борьба, и, заранее предчувствуя ее исход, он медлил. Луиза не смела обратиться к нему, страшась получить ответ, которого ждала. Она заставила себя вязать, но ничего не видела, и петли ложились вкривь и вкось. Полил дождь. После долгого молчания Кристоф подошел к матери. Она даже не пошевелилась, только сильнее застучало у нее сердце. Кристоф смотрел на нее, не двигаясь, и вдруг упал на колени, зарылся головой в ее платье и молча заплакал. Она поняла, что он остается, и смертельная тоска отпустила ее сердце, но тотчас же в него вошла мука раскаяния: она чувствовала, какую жертву приносит ей сын, и теперь переживала те страдания, которыми терзался Кристоф, когда собирался принести в жертву ее. Склонившись к сыну, она начала жадно целовать его лоб и волосы. Оба плакали от одной боли. Наконец Кристоф поднял голову, и Луиза, притянув ее к себе, заглянула ему в глаза. Ей хотелось сказать:
«Уезжай!»
Но она не могла.
Ему хотелось сказать:
«Я рад, что остаюсь».
Но он не мог.
И выхода не было. Ни он, ни она ничего не могли изменить. В порыве мучительной неясности она произнесла со вздохом:
— Ах! Если б можно было вместе родиться и вместе умереть!
Эта наивная мольба вызвала у Кристофа прилив нежности; он отер слезы и, через силу улыбнувшись, сказал:
— Мы умрем вместе.
Она спросила еще раз:
— Значит, теперь ты уже не уедешь? Ты твердо решил?
Он поднялся с колен.
— Ведь я же сказал. Не будем к этому возвращаться. Я не переменю решения.
Свое обещание Кристоф сдержал: он не заводил речи об отъезде, однако не думать о нем было выше его сил. Он остался, но его жертва дорого стоила матери, — теперь она всегда видела его печальным и Хмурым. Луиза была бестактна и, хотя знала за собой эту слабость, досаждала ему расспросами о причинах его горя, которые были ей совершенно ясны. Она преследовала его своей лихорадочной, утомительной, болтливой нежностью, напоминая ему о том, о чем он хотел забыть, — о разделявшем их расстоянии. Сколько раз он порывался откровенно поговорить с матерью! Но при первой попытке между ними вырастала глухая стена, и он утаивал свои мысли. Она угадывала, что с ним происходит, но не смела или не умела вызвать его на откровенность. А когда все-таки отваживалась, дело кончалось тем, что он еще глубже запрятывал свои тайны, как ни жгли они его самого.
Тысячи мелочей, невинных слабостей отделяли Кристофа от Луизы, раздражали его. По старческой забывчивости она нередко повторяла по нескольку раз одно и то же. Она с восторгом пересказывала сплетни, слышанные от соседок, а главное, не уставала вспоминать всякие пустячки из младенческих лет Кристофа с упорством кормилицы, которой не хочется верить, что питомец ее давно уже не в колыбели. Столько кладешь трудов, чтобы повзрослеть, стать человеком! А тут перед тобой — точно назло — развертывают, подобно кормилице Джульетты, измаранные пеленки, жалкие мыслишки, повесть о той злосчастной поре, когда рождающаяся душа трепещет и бьется, защищаясь от жестокого гнета низменной материи, от окружающего мира!
Однако наряду с этим у Луизы бывали порывы трогательной нежности, когда она видела в сыне просто свое малое дитя; Кристофа покоряла эта ласка, и он отвечал на нее, как малое дитя.
Но, что хуже всего, они с утра до вечера оставались вместе, всегда вместе, отрезанные от других людей. Когда страдают двое и не могут помочь друг другу, страдание неизбежно становится невыносимым: каждый считает другого виновником своего горя, и в конце концов оба утверждаются в этом мнении. Уж лучше быть одному, тогда и страдаешь только за себя.
Эта пытка повторялась изо дня в день. Ей не было бы конца, если бы, как всегда, не выручил случай — случай на первый взгляд несчастный, но по своим последствиям счастливый, и он сразу же вывел их из томившей обоих нерешительности.
Октябрь. Воскресенье. Четыре часа дня. Солнце сияет. Кристоф с утра заперся у себя в комнате. «Упиваясь тоской», он погрузился в свои мысли.
Наконец он не выдержал, его неодолимо потянуло на воздух, побродить, устать до изнеможения, — лишь бы не думать.
Накануне у него произошла размолвка с матерью. И он вышел, не простившись с ней. Но, закрыв за собою дверь, почувствовал, какую боль это причинит ей, как тоскливо ей будет в одиночестве. Он вернулся, стараясь убедить себя, будто что-то забыл. Дверь в комнату Луизы была приоткрыта. Кристоф просунул голову в щель. Несколько секунд он смотрел на мать: какое место этим секундам суждено было занять в его жизни!..
Луиза только что пришла из церкви. Она сидела на своем любимом месте, в углу у окна. Грязно-белая, облупленная стена противоположного дома заслоняла вид, но направо Луиза видела из своего уголка через дворы соседних домов краешек лужайки величиной с ладонь. На подоконнике стояли горшки с вьюнками; вьюнки карабкались вверх по веревочкам, раскидывая по этой воздушной лесенке тоненькую сетку, позолоченную солнцем. Луиза устроилась на низком табурете; она сидела ссутулившись, с раскрытой толстой Библией на коленях, но не читала. Положив на книгу руки — руки труженицы со вспухшими венами и квадратными, слегка загнутыми книзу ногтями, — она любовалась чахлым растением и лоскутом неба, синевшим сквозь сетку вьюнков. Отблеск солнца, пройдя сквозь золотисто-зеленую листву, ложился на ее усталое лицо с проступавшими на нем красными прожилками, на седые, редкие, очень тонкие волосы и полуоткрытый улыбающийся рот. Она упивалась этим часом покоя, лучшим за всю неделю. Она старалась не упустить эти минуты забытья, особенно Сладостные для вечных тружеников, когда мысли куда-то уходят, а в немой полудреме слышен голос наполовину уснувшего сердца.
— Мама, — сказал Кристоф, — мне хочется пройтись. Я пойду в сторону Буйра, вернусь не скоро.
Дремавшая Луиза встрепенулась. Повернув голову к сыну, она взглянула на него своим мягким, спокойным взглядом.
— Иди, мальчик, — сказала она, — день погожий, надо погулять.
Она улыбнулась. Он ответил ей улыбкой. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, затем молча попрощались еле заметным кивком головы и взглядом.
Кристоф тихо закрыл дверь. Луиза не спеша вернулась к своим грезам, которые словно посветлели от улыбки сына, — как бледные листья вьюнков под лучом солнца.
Так он покинул ее — навсегда.
Октябрьский вечер. Бледное, нежаркое солнце. Деревня тихо засыпает. С маленьких деревенских колоколен плывет над безмолвными полями ленивый перезвон. Над пашнями медленно поднимается пар. Вдалеке колышется прозрачная дымка. Белые туманы, прильнувшие к земле, ждут ночи, чтобы подняться. На свекловичном поле петляет охотничья собака, не отрывая морды от следа. В сером небе суетливо носится стая ворон.