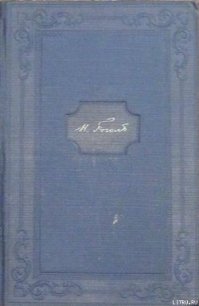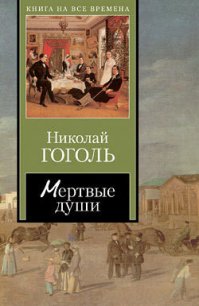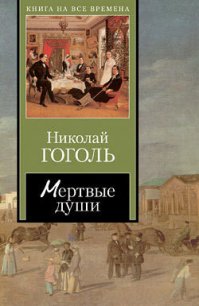Мертвые души. Том 3 - Авакян Юрий Арамович (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
Весна уж окончательно вступила в свои права и уж всё вокруг полно было её лёгким и ясным светом, что радостными бликами мерцал и по ярким, словно бы лаковым листочкам, укрывшим плотною завесою кроны дерев, ослепительными пятнами сверкал на поверхности пруда, в котором уже успели вывестись головастики, золотым сиянием убирал кресты каменной деревенской церкви, что хорошо видна была отсюда, с возвышения, на котором расположилась господская усадьба. Тёплый воздух полон был гудением пчёл и шмелей, перепархивавших с цветка на цветок, и больших синих мух, прилетавших сюда вероятно со скотного двора. Мухи сии, непонятно почему, но вызывали в детских сердцах прилив неких недоступных пониманию Павла Ивановича чувств, и Фемистоклюс, который в своих географических познания, так и не ушёл далее Москвы и Парижу, и Алкид, в знаниях своих вряд ли превосходивший старшего братца, часами могли носиться по двору за сиими несчастными насекомыми с тем, чтобы оборвавши им крылышки следить за тем, насколько далеко сумеют они улететь после подобных, проведённых над ними изысканий. Сия любознательность и рвение, выказываемое отпрысками, вызывали в сердце наблюдавшего за ними с веранды Манилова неподдельную гордость и возвышенные надежды в отношении ждущей его сыновей впереди блестящей будущности, мыслями о которой он и делился с Чичиковым, что проводил с ним на веранде тихие послеобеденные часы.
И Чичиков, кивая согласно ему в ответ головою, чувствовал, как опускается на него блаженная безмятежность, точно бы расслаблявшая все его члены. Ему казалось, что наконец—то ослабнула та жесткая нить, на которой словно бы на створке держала его во все последние и нелёгкие для нашего героя годы, судьба. Временами некое новое и доселе незнакомое чувство легонько, точно бы нежным пальчиком касалось до его сердца, и Павел Иванович понимал, что вероятно это и есть то самое счастье, о котором ему, впрочем, как и многим, только лишь доводилось слышать.
Тот новый для себя урок, что вынес он после посещения Собакевича, урок, показавшийся ему столь заманчивым, посулившим изрядный прибыток в дополнении к тому, что надеялся получить он по завершении своей проделки с «мёртвыми душами», по более зрелому размышлению уж перестал казаться столь привлекательным по той причине, что был он не прост в исполнении, потому как всякий раз, вздумай Павел Иванович прибегнуть к нему, ему пришлось бы привлекать к участию в сем деле и капитанов—исправников, а сие могло привесть и к непредсказуемым расходам и к неожиданным неприятностям. Потому—то он и решил отложить сию новую каверзу, столь удачно проделанную им в имении Собакевича, до лучших времен.
Порою в расслабленной его душе возникало искушение – наведаться в NN с тем, чтобы сызнова пройтись по присутственным местам пугая братьев—чиновников внезапным своим появлением, но искушение сие бывало мимолётным и верно порождаемо было некой игривостью его умонастроения, возникнувшей в нём в эти последние, проникнутые покоем дни. Может быть сей безмятежный покой, столь непривычный Павлу Ивановичу и был той причиною, что заставляла откладывать его отъезд свой со дня на день, потому как он словно бы чувствовал подспудно, каковые нелёгкие хлопоты и заботы ожидают его на предстоящем ему пути.
Но всё имеет, господа, свойство приходить к своему завершению – и дело, и безделье. Пришёл час и Павлу Ивановичу, стряхнувши с себя сонное и столь приятное оцепенение, отправляться далее. И стоило ему только заикнуться о своём намерении, как чета Маниловых тут же сделалась безутешною. Потоками слёз орошаемы были последние, проведённые им в Маниловке дни. Более того, и сам Манилов принялся было собираться в дорогу, дабы плечом к плечу с Чичиковым отправлять «возложенную на них государем—императором высокую миссию», чему Чичиков, разумеется, тут же воспротивился, сказавши, что впереди его дожидают особой секретности дела, до которых он никого не вправе допустить, даже и Манилова. И пообещавши тому скорую звезду на сертук, собрался вдруг, без затей, в одночасье и сохраняя своё инкогнито укатил с тем, чтобы более уж не возвращаться сюда никогда.
Однако появление его в губернии не осталось незамеченным, как бы того и не хотелось нашему герою. Ведь как ни хорони, как не укрывай правду, а она всё равно найдёт самую что ни на есть крохотную щёлочку да и пролезет наружу. Кто знает, может быть даже и оттого, что у российских наших стен, по моему глубочайшему убеждению, помимо ушей имеются ещё и языки, причём, надо думать, преизряднейшей длины. И что тому причиною – искусство ли каменщиков стены сии кладущих, особенности замечательного нашего климата, деликатность ли народонаселения, либо другая какая напасть, сказать не берусь.
Но так или иначе, а по городу поползли слухи, причём надобно сказать слухи весьма лестные для нашего героя. Уж каковым образом пробрались они в город - не знаем, но только прошёл меж чиновников, знавшихся некогда с Павлом Ивановичем, толк о внезапном его появлении в губернии и о том, что выправлены были им некия бумаги, по которым выходило, что он и вправду миллионщик, а вовсе не делатель фальшивых бумажек, как то о нём промеж чиновников решено было ранее.
Сызнова собрались они с тем, дабы обсудить в своём кругу сие из ряду вон выходящее известие и решить, каковым же манером им вести себя далее. Ведь, как ни крути, а на поверку выходило, что они по глупости, да с перепугу позахлопывали двери своих домов перед носом, может быть, наидостойнейшего изо всех путешественников, что когда—либо посещали пределы славной их губернии. А сие, ох, как нехорошо могло при случае обернуться! Посему зван был на их собрание и Семён Семёнович Чумоедов, к слову сказать, приехавший с охотою, потому как собрание сие имело место не у почтмейстера, а совсем наоборот, у давнего приятеля Семёна Семёновича – полицеймейстера, чьи обеды славились, как мы уж имели случай убедиться, на всю губернию, особенно в отношении рыбных деликатесов и разносолов.
Семён Семёнович подтвердил, что дошедшие до чиновников слухи отнюдь не слухи, а истинная правда. Потому как покупки произведены были Чичиковым Павлом Ивановичем по закону, а крестьяне по закону же и были переселены, что явствует изо всех протоколов и справок, многия из которых он имел удовольствие скрепить собственною рукою.
Участие во всей этой истории Семёна Семёновича, конечно же, должно было смутить многих из тех, кто был с ним хорошо знаком, но городские чиновники почему—то пропустили сию важную деталь, как говорится, «мимо ушей», может быть даже и оттого, что раздосадованы были на себя до чрезвычайности. Вот почему за столом воцарилось долгое и унылое молчание, нарушаемое лишь стуком ножей, да царапаньем вилок о тарелки.
Растерянность их была того же рода, что случается у глупых и непослушных детей непонятно зачем и как изломавших прекрасную игрушку, равной которой не видать им уже вовек. Скоро у них и вовсе испортился аппетит и они сидели не глядя на стоявшие по столу блюда, воздыхая и озабоченно шепча про себя что—то, может быть и слова некой, призванной защитить их молитвы, выключая одного лишь почтмейстера, всё ещё возившего куском семги по своей тарелке.
— Послушай, Шпрехен зи дейч, Иван Андреич! Неужто тебе просто необходимо манкировать общество своею вознею? — не удержавшись сказал полицеймейстер. – Мало тебе того, что ты его в делатели фальшивых ассигнаций определил, так ещё и всем своим отношением хочешь показать, как тебе безразлична общая наша забота, — уже без обиняков напустился он на почтмейстера.
На что почтмейстер, едва не подавившись сёмгою, но ловко сумевший переложить её языком за щёку так, чтобы сподручнее было отвечать, принялся было оправдываться. По его словам выходило, что виною всему был вовсе не он, а, царство ему небесное, покойный прокурор со своею противною и всем хорошо известною привычкою обвинять всякого в невесть каких грехах – так, для всякого случая. Да не тут—то было! Потому что хотя покойный и не мог уж за себя постоять, за него вступились верные его друзья возразивши, что прокурор в тот памятный вечер и вовсе молчал, видимо оттого, что уж чувствовал себя худо. И отбивши прокурора, чиновники вновь принялись возводить обвинения на почтмейстера, успевшего тем временем проглотить спрятанный за щекою заветный кусок.