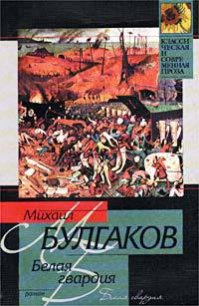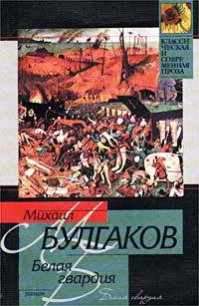Белая гвардия - Булгаков Михаил Афанасьевич (читать книги онлайн регистрации .TXT) 📗
Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и непрочный, который вот-вот упадет. И лицо его уже начало пропускать какие-то странные восковые оттенки, и нос его изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступившей. Еленины ноги похолодели, и стало ей туманно-тоскливо в гнойном камфарном, сытном воздухе спальни. Но это быстро прошло.
Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем, и дышал он с присвистом, через оскаленные зубы притягивая липкую, не влезающую в грудь струю воздуха. Давно уже не было у него сознания, и он не видел и не понимал того, что происходило вокруг него. Елена постояла, посмотрела. Профессор тронул ее за руку и шепнул:
– Вы идите, Елена Васильевна, мы сами все будем делать.
Елена повиновалась и сейчас же вышла. Но профессор ничего не стал больше делать.
Он снял халат, вытер влажными ватными шарами руки и еще раз посмотрел в лицо Турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа.
– Безнадежен, – очень тихо сказал на ухо бритому профессор, – вы, доктор Бродович, оставайтесь возле него.
– Камфару? – спросил Бродович шепотом.
– Да, да, да.
– По шприцу?
– Нет, – глянул в окно, подумал, – сразу по три грамма. И чаще. – Он подумал, добавил: – Вы мне протелефонируйте в случае несчастного исхода, – такие слова профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин даже сквозь завесу бреда и тумана не воспринял их, – в клинику. Если же этого не будет, я приеду сейчас же после лекции.
Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них двадцать четвертого декабря в сумерки, а вечером дробящимися, теплыми огнями зажигались в гостиной зеленые еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф все сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконой в тяжелом окладе. Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная набок, глядела на Елену. В двух квадратах окон стоял белый декабрьский беззвучный день, в углу зыбкий язычок огня устроил предпраздничный вечер. Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок и опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевитого паркета и, молча, положила первый земной поклон.
В столовой прошел Мышлаевский, за ним Николка с поблекшими веками. Они побывали в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам:
– Помирает... – набрал воздуху.
– Вот что, – заговорил Мышлаевский, – не позвать ли священника? А, Никол?... Что ж ему так-то, без покаяния...
– Лене нужно сказать, – испуганно ответил Николка, – как же без нее. И еще с ней что-нибудь сделается...
– А что доктор говорит? – спросил Карась.
– Да что тут говорить. Говорить более нечего, – просипел Мышлаевский.
Они долго тревожно шептались, и слышно было, как вздыхал бледный отуманенный Лариосик. Еще раз ходили к доктору Бродовичу. Тот выглянул в переднюю, закурил папиросу и прошептал, что это агония, что, конечно, священника можно позвать, что ему это безразлично, потому что больной все равно без сознания и ничему это не повредит.
– Глухую исповедь...
Шептались, шептались, но не решились пока звать, а к Елене стучали, она через дверь глухо ответила: «Уйдите пока... я выйду...»
И они ушли.
Елена с колен исподлобья смотрела на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами и, протягивая руки, говорила шепотом:
– Слишком много горя сразу посылаешь, мать-заступница. Так в один год и кончаешь семью. За что?... Мать взяла у нас, мужа у меня нет и не будет, это я понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. А теперь и старшего отнимаешь. За что?... Как мы будем вдвоем с Николом?... Посмотри, что делается кругом, Ты посмотри... мать-заступница, неужто ж не сжалишься?... Может быть, мы люди и плохие, но за что же так карать-то?
Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола, перекрестилась и, вновь простирая руки, стала просить:
– На тебя одна надежда, пречистая дева. На тебя. Умоли сына своего, умоли господа бога, чтоб послал чудо...
Шепот Елены стал страстным, она сбивалась в словах, но речь ее была непрерывна, шла потоком. Она все чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтоб сбить назад выскочившую на глаза из-под гребенки прядь. День исчез в квадратах окон, исчез и белый сокол, неслышным прошел плещущий гавот в три часа дня, и совершенно неслышным пришел тот, к кому через заступничество смуглой девы взывала Елена. Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший, и благостный, и босой. Грудь Елены очень расширилась, на щеках выступили пятна, глаза наполнились светом, переполнились сухим бесслезным плачем. Она лбом и щекой прижалась к полу, потом, всей душой вытягиваясь, стремилась к огоньку, не чувствуя уже жесткого пола под коленями. Огонек разбух, темное лицо, врезанное в венец, явно оживало, а глаза выманивали у Елены все новые и новые слова. Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами, день темнел страшно быстро, и еще раз возникло видение – стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные, красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор.
– Мать-заступница, – бормотала в огне Елена, – упроси его. Вон он. Что же тебе стоит. Пожалей нас. Пожалей. Идут твои дни, твой праздник. Может, что-нибудь доброе сделает он, да и тебя умолю за грехи. Пусть Сергей не возвращается... Отымаешь – отымай, но этого смертью не карай... Все мы в крови повинны, но ты не карай. Не карай. Вон он, вон он...
Огонь стал дробиться, и один цепочный луч протянулся длинно, длинно к самым глазам Елены. Тут безумные ее глаза разглядели, что губы на лике, окаймленном золотой косынкой, расклеились, а глаза стали такие невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей сердце, она сникла к полу и больше не поднималась.
По всей квартире сухим ветром пронеслась тревога, на цыпочках через столовую пробежал кто-то. Еще кто-то поцарапался в дверь, возник шепот: «Елена... Елена... Елена...» Елена, вытирая тылом ладони холодный, скользкий лоб, отбрасывая прядь, поднялась, глядя перед собой слепо, как дикарка, не глядя больше в сияющий угол, с совершенно стальным сердцем прошла к двери. Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама собой, и Никол предстал в обрамлении портьеры. Николкины глаза выпятились на Елену в ужасе, ему не хватало воздуху.
– Ты знаешь, Елена... ты не бойся... не бойся... иди туда... кажется...
Доктор Алексей Турбин, восковой, как ломаная, мятая в потных руках свеча, выбросив из-под одеяла костистые руки с нестрижеными ногтями, лежал, задрав кверху острый подбородок. Тело его оплывало липким потом, а высохшая скользкая грудь вздымалась в прорезах рубахи. Он свел голову книзу, уперся подбородком в грудину, расцепил пожелтевшие зубы, приоткрыл глаза. В них еще колыхалась рваная завеса тумана и бреда, но уже в клочьях черного глянул свет. Очень слабым голосом, сиплым и тонким, он сказал:
– Кризис, Бродович. Что... выживу?... А-га.
Карась в трясущихся руках держал лампу, и она освещала вдавленную постель и комья простынь с серыми тенями в складках.
Бритый врач не совсем верной рукой сдавил в щипок остатки мяса, вкалывая в руку Турбину иглу маленького шприца. Мелкие капельки выступили у врача на лбу. Он был взволнован и потрясен.
19
Пэтурра. Было его жития в Городе сорок семь дней. Пролетел над Турбиными закованный в лед и снегом запорошенный январь 1919 года, подлетел февраль и завертелся в метели.
Второго февраля по турбинской квартире прошла черная фигура, с обритой головой, прикрытой черной шелковой шапочкой. Это был сам воскресший Турбин. Он резко изменился. На лице, у углов рта, по-видимому, навсегда присохли две складки, цвет кожи восковой, глаза запали в тенях и навсегда стали неулыбчивыми и мрачными.