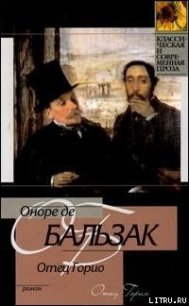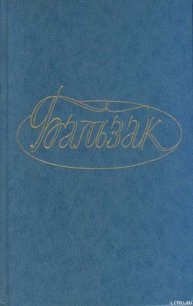Отец Горио (др. перевод) - де Бальзак Оноре (читаем книги txt) 📗
Сколько догадок строилось пансионерами о причинах его падения! Но добраться до корня было не так-то легко! По словам лжеграфини, папаша Горио был нелюдим, молчальник. По логике пустоголовых людей, всегда болтливых, так как им нечего сказать, кроме ерунды, — тот, кто не говорит о своих делах, непременно занимается дурными делами. Таким образом, этот достоуважаемый коммерсант превратился в жулика, этот волокита стал старым шутом. Папаша Горио то оказывался, как предполагал Вотрен, поселившийся в это время в Доме Воке, биржевым зайцем, по энергичному выражению биржевиков, который обделывает темные делишки с процентными бумагами, после того как разорился сам. То это был один из мелких игроков, которые ставят на карту и выигрывают по десяти франков в вечер. То из него делали сыщика тайной полиции, по Вотрен утверждал, что для этого он недостаточно хитер. Папаша Горио был, кроме того, скряга, дающий ссуды на короткий срок за ростовщические проценты, или человек, ставящий на один и тот же номер лотереи, постепенно повышая ставку в надежде на выигрыш. Ему приписывали самые таинственные профессии, порождаемые пороком, позором, беспомощностью. Но, как ни постыдны были поведение или пороки Горио, отвращение, внушаемое им, не доходило до того, чтобы изгнать его — за пансион он платил. К тому же он приносил кое-какую пользу: кто был не в духе — мог сорвать на нем досаду; кто был в хорошем настроении — мог посмеяться над ним.
Восторжествовало мнение госпожи Воке, казавшееся наиболее правдоподобным. Она пустила слух, что этот превосходно сохранившийся господин, здоровый, как бык, и способный еще доставить немало удовольствия, — попросту развратник со странными вкусами. Вот на каких фактах основывала свою клевету госпожа Воке.
Через несколько месяцев после отъезда злополучной графини, ухитрившейся прожить полгода на ее счет, как-то утром, лежа в постели, вдова услышала на лестнице шуршанье шелкового платья и легкие шаги молодой, проворной женщины, пробиравшейся к Горио, который предупредительно отворил свою дверь. Толстуха Сильвия тотчас же доложила барыне, что какая-то девушка, одетая, как божество, обутая в прюнелевые, совсем чистенькие полусапожки, как угорь, проскользнула с улицы на кухню и спросила, где живет господин Горио. Госпожа Воке и служанка стали подслушивать и уловили кое-какие нежные слова, произнесенные во время довольно продолжительного визита. Когда господин Горио пошел проводить свою даму, толстуха Сильвия немедленно взяла корзинку и, делая вид, будто идет на рынок, последовала за влюбленной парочкой.
— Сударыня, — сказала она хозяйке по возвращении, — что ни говорите, господин Горио, должно быть, чертовски богат; иначе он не давал бы им так шиковать. Представьте себе, на углу Эстрапады стоял великолепный экипаж, и она села в него.
Во время обеда госпожа Воке собственноручно спустила штору, чтобы господина Горио не беспокоило солнце, светившее ему прямо в глаза.
— Вас любят красотки, господин Горио, вот и солнышко вас жалует, — сказала она, намекая на утренний визит. — У вас губа не дура — она прехорошенькая.
— Это моя дочь, — ответил он с некоторой гордостью, которую пансионеры приняли за хвастовство старика, старающегося соблюсти приличия.
Спустя месяц визит этот повторился. Его дочь, в первый раз пришедшая в утреннем туалете, явилась после обеда, нарядившись как будто для выезда в свет. Пансионеры, болтавшие в гостиной, успели разглядеть красивую, изящную блондинку с тонкой талией, слишком изысканную, чтобы она могла быть дочерью какого-то папаши Горио.
— Да их две! — сказала толстуха Сильвия, не узнав ее.
Через несколько дней другая девушка, высокая, хорошо сложенная брюнетка, с бойким взглядом, спросила господина Горио.
— Да их три! — сказала Сильвия.
Вторая дочь, в первый раз пришедшая навестить отца также утром, несколько дней спустя приехала вечером в карете, одетая в бальное платье.
— Да их четыре! — сказали госпожа Воке и толстуха Сильвия, не узнавшие в этой важной даме девушки, пришедшей в первый раз утром в скромном платье.
Горио продолжал еще платить за содержание тысячу двести франков. Госпожа Воке находила вполне естественным, что богатый человек имеет четырех или пять любовниц, а то, что он выдавал их за дочерей, по ее мнению, доказывало лишь его изворотливость. Ее нисколько не возмущало, что он принимает их в Доме Воке. Но эти посещения объясняли ей равнодушие жильца к ее особе, а потому она позволила себе, в начале второго года, назвать его старым котом. Наконец, когда ее жилец пал до девятисот франков, госпожа Воке, увидя, что по лестнице спускается одна из этих дам, весьма нагло спросила его, каким, собственно, заведением считает он ее дом. Папаша Горио ответил ей, что эта дама его старшая дочь.
— Что же, у вас три дюжины дочерей, что ли! — съязвила госпожа Воке.
— Всего лишь две, — возразил жилец с кротостью разорившегося человека, которого нужда научила покорно сносить все.
К концу третьего года папаша Горио опять сократил свои расходы, перебравшись на четвертый этаж и снизив плату за свое содержание до сорока пяти франков в месяц. Он бросил нюхать табак, отказался от услуг парикмахера и перестал пудриться. Когда папаша Горио впервые появился без пудры, у хозяйки вырвался возглас изумления; цвет его волос резко изменился, они стали грязно-серыми и зеленоватыми. Лицо его, от тайных огорчений становившееся день ото дня все печальнее, выглядело теперь безутешнее, чем у любого из столовников. Итак, все сомнения рассеялись. Папаша Горио — старый развратник; лишь искусство врача предохраняет его глаза от вредного влияния лекарств, необходимых при его болезнях. Противный цвет волос происходит от излишеств и тех снадобий, которые он принимает, чтобы продолжать излишествовать. Физическое и душевное состояние простака подтверждало эти сплетни. Когда его прекрасное белье износилось, он заменил его сшитым из коленкора по четырнадцать су локоть. Бриллианты, золотая табакерка, цепочка, драгоценности мало-помалу исчезли. Он расстался со своим васильковым фраком, со своим щегольским костюмом и стал носить и летом и зимою грубый суконный сюртук каштанового цвета, жилет из козьей шерсти и серые панталоны из шерстяной дерюги. Он постепенно худел; икры его опали; лицо, когда-то раздобревшее от сытого буржуазного благополучия, страшно осунулось и сморщилось; лоб покрылся морщинами; резко обозначилась челюсть. За четвертый год своего пребывания на улице Нев-Сент-Женевьев Горио изменился до неузнаваемости. Крепкий шестидесятидвухлетний макаронщик, которому на вид было не больше сорока, рослый, толстый буржуа, свеженький от глупости, веселивший своей игривостью взоры прохожих, улыбавшийся, как юноша, стал похож на придурковатого, трясущегося, мертвенно бледного семидесятилетнего старца. Его голубые, прежде такие живые глаза сделались мутными, оловянными, выцвели; из них уже не текли слезы, но красные края век, казалось, кровоточили. Одним он внушал отвращение, в других возбуждал жалость. Молодые студенты-медики, заметив, как отвисла его нижняя губа, и измерив вершину его лицевого угла, долго приставали к нему и, ничего не добившись, объявили, что он впал в идиотизм. Как-то раз вечером, после обеда, госпожа Воке насмешливо спросила его:
— Ну, что же вас больше не навещают дочки? — ставя под сомнение его отцовство.
Папаша Горио вздрогнул, словно хозяйка уколола его железом.
— Иногда навещают, — ответил он взволнованным голосом.
— А-а! Вы иногда еще видитесь с ними! — закричали студенты. — Браво, папаша Горио!
Но старик не слышал шуток, вызванных его ответом: он впал в задумчивость, которую поверхностный наблюдатель принял бы за старческое оцепенение, происходившее от слабоумия. Если бы они узнали его поближе, то, может быть, живо заинтересовались бы загадкой, какую представляло его физическое и душевное состояние; однако это была слишком трудная задача. Можно было навести справки, был ли Горио действительно раньше макаронщиком и велико ли его состояние, но старики, в которых он возбуждал любопытство, не выходили за пределы своего квартала и жили в меблированных комнатах, словно устрицы, приросшие к скале. Другие же, увлеченные водоворотом парижской жизни, едва выйдя за пределы улицы Нев-Сент-Женевьев, забывали о жалком старике, служившем предметом их насмешек. И этим ограниченным умам и этой беспечной молодежи безысходная нужда папаши Горио и его видимое тупоумие казались несовместимыми с достатком и с какими бы то ни было умственными способностями. Что касается женщин, которых он называл дочерьми, то все разделяли мнение госпожи Воке, говорившей с суровой логикой старух, привыкших судачить вечерком, строя всевозможные догадки.