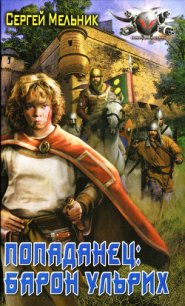Мюнхгаузен, История в арабесках - Иммерман Карл Лебрехт (бесплатные полные книги .TXT) 📗
Несколько времени спустя вернулся домой и Мюнхгаузен, выспавшийся, бодрый, с ясными, сверкающими глазами. Он чувствовал в себе силу и мужество встретиться с бароном лицом к лицу, решив не дать ему открыть рта за весь вечер и просто доконать его своими рассказами. Он с удовольствием узнал, что барышне нездоровится и что поэтому она не примет участия в беседе. Таким образом он был огражден от ее вопросов и замечаний. Но так как при чтении легче удержать нить повествования, чем при устной передаче, то, выходя из комнаты, он запихал в боковой карман сюртука несколько тетрадей, полных самых несуразных историй, и в таком вооружении предстал перед владельцем замка, который только что приказал Карлу Буттерфогелю убрать со стола почти нетронутую половину щуки.
- Ага! - воскликнул старый барон навстречу Мюнхгаузену. - Вернулся, беглец! Теперь мы сведем счеты! Оставить своего доверенного и компаньона одного на работе в такую жару! Если подобные предприятия требуют спокойного отношения к делу, то без трудолюбия они тоже вперед не двинутся. Разреши мне напомнить тебе об этом. А теперь садись, взгляни на чертеж, который я составил, и обсудим его обстоятельно, чтобы можно было приступить к постройке.
Мюнхгаузен давно уже вытащил тетрадь из-за пазухи, развернул ее и только ждал удобного момента. Как только старый барон сделал паузу, чтобы перевести дух, он тотчас же приступил к выполнению своего намерения и прочел следующее быстро и безостановочно.
Я
ОТРЫВОК ИЗ ИСТОРИИ ВОСПИТАНИЯ
Мой так называемый отец, не будучи в силах выносить семейные неурядицы, невольной причиной которых я был, сказал моей так называемой матери: "Дездемона, развод неизбежен. Я терпел, когда ты мне раз тридцать на день повторяла, что ты вышла за меня не по любви, а из почтения к моему покойному отцу, вралю Мюнхгаузену. Я терпел шестнадцать лет и девять месяцев, но то, что ты щиплешь этого несчастного клопа (который мне так солоно достался), где бы ты его ни увидела, - вот что оскорбляет мои чувства сверх всякой меры. Прощай, Дездемона! Мы не станем проклинать друг друга, мы будем писать друг другу, но жить вместе мы уже не можем".
Он подманил меня обсахаренным сухарем, сунул меня в левый карман кафтана, так как я не мог еще ни стоять, ни ходить, хотя был уже умнее иного тридцатилетнего, и бросился из комнаты, в то время как покинутая супруга с чувством женского достоинства села за фортепьяно и запела: "После стольких мук..." [77].
Отец побежал по деревенской улице и выбежал на брауншвейгскую дорогу. Я просил его замедлить шаг, так как его резкие движения причиняли мне боль. Действительно, я чуть было не расшиб себе носа об его ногу, о которую, развеваясь, ударялась левая пола. Но он не слушал меня, а летел все быстрее, восклицая сквозь слезы: "Чтобы ты, столь солоно доставшийся мне клоп, сделался жертвой этой злющей бабы! Этому не бывать! Ты произведение моих глубоких изысканий, мое драгоценнейшее сокровище, мой неоценимый клад!" Я невыносимо страдал от этих проявлений пламенной нежности и от вызываемых ими бурных движений кармана. Тут-то я впервые познакомился с той истиной, что, когда люди очень сильно любят, они способны отравить жизнь любимому существу.
К счастью, на полпути нам повстречался ямщик, возвращавшийся из Брауншвейга с пустой почтовой каретой. Мой так называемый отец подкупил его: тот за деньги нарушил свой священнейший долг, позволил нам сесть, повернул обратно и высадил, не доезжая Брауншвейга. Там отец взял наемный экипаж, который через Шеппенштет, Магдебург и Валахию доставил нас в Салоники. В Шеппенштете как раз в это время учреждали общегерманскую академию, в Магдебурге был национальный траур, так как клецки в этом году никак не удавались, в Валахии рождались одни только вахлаки, а в Салониках уже попадаешь в Туретчину.
Ах, если бы я не должен был все время торчать в кармане! Я испытывал жгучую жажду самостоятельных и широких наблюдений, но принужден был проводить время в обществе окорока, булки и тушеной говядины, так как отец имел обыкновение носить завтрак в том же левом кармане. Мне оставалось только выглядывать из отверстия. На каждой ночевке я говорил отцу:
- Папа, я уже вырос из кармана, посадите меня рядом с собой.
Но он только дарил меня отеческим поцелуем и отказывал в моей просьбе, так как, по его словам, боялся меня потерять. Моя юношеская веселость исчезла, я чувствовал, что сам должен объявить себя совершеннолетним, и только ждал первого подходящего случая, чтобы привести это намерение в исполнение.
В Салониках мы остановились и отец расплатился за экипаж. Вознице достался выгодный обратный груз, а именно чувствительный и либеральный русский барин с четырьмя свежезакупленными рабынями-черкешенками. В Салониках, как уже сказано, начинается Туретчина. Отец хотел разузнать там о средстве против женской эмансипации, а я должен был сделаться кадетом у янычар, как только сумею стоять и ходить. У нас были из Ганновера рекомендательные письма в Турцию [78]. Но судьба перевернула все вверх дном.
Отец (в дальнейшем я не буду прибавлять "так называемый", ибо это должно подразумеваться само собой) много гулял, главным образом ради меня, чтобы, как он говорил, привить мне с ранних лет любовь к красотам природы. При этом он упустил из виду, что, сидя в его левом кармане, я мало что видел из красот природы и должен был в темноте верить ему на слово, когда он, остановившись или глядя между ног - в этой позе, как известно, ландшафт кажется особенно прелестным, - восхищался божественным видом, голубой ароматной далью и золотым восходом или закатом. Совершенно превратное воспитание! Я умолял его сунуть меня хотя бы в сапог, как это делают самоеды, - отец носил сапоги с отворотами и кистями, - но все напрасно. Он боялся выронить меня оттуда. Мое положение постепенно становилось невыносимым, и нередко весь левый карман был влажен от слез моих.
Однажды отец сидел, прислонившись к оливковому дереву, смотрел на закат и был вне себя от его пурпурного отражения в Салоникском заливе. Обычно он даже в минуты восторга держал руки в карманах, так что улизнуть было невозможно. Но на этот раз энтузиазм пересилил, он закинул руки за голову, и я воспользовался этим моментом, чтобы выскользнуть из кармана. Тут я оглянулся, вздохнул полной грудью, и мне стало так хорошо после долгого заключения... Я полз, шел, спотыкался, немного бежал, насколько мне это удавалось, пока отец продолжал держать речь к морю и солнцу. Я уже собирался обратно в карман из страха перед побоями - ибо отец, несмотря на любовь, сек меня самым чувствительным образом, - как судьба начала со мной удивительную игру, которая продолжалась очень долго и заставила меня испытать самые своеобразные приключения.
Внезапно я чувствую над собой большую темную тень, слышу шум, точно треснуло и упало дерево, ощущаю прикосновение грубых перьев и двух когтистых лап, кто-то хватает меня и молниеносно уносит в облака. С ужасом познал я свою судьбу и воскликнул, обращаясь к самому себе: "Бедный, столь солоно доставшийся своему отцу клоп, ты в когтях ягнятника! Зачем, несчастный, покинул ты отцовский карман?" Положение было ужасающее. Надо мной золотисто-желтое брюхо и кораллово-красные горящие глаза чудовища, вокруг меня воздух и облака и стаи гонящихся за нами и каркающих птиц, завидующих добыче коршуна, внизу, на головокружительной глубине, - море и земля в темных и светлых полосах. Коршун летит и летит. Он путешествует и захватил провизию на дорогу. Чудовище орет беспрерывно: "Фи! фи!" Я кричу ему с остроумием отчаяния:
- Если ты можешь кричать "фи", то скажи это прежде всего самому себе, отвратительный Франц Моор воздушных пространств, фи на твой бесчестный поступок! Согласно естественным наукам, ты в исключительных случаях нападаешь на подпасков. Разве же я подпасок? Разве я не образованный ребенок образованных родителей? Разве, варвар, у тебя самого нет детей? Разве не жаль тебе отца, который сидит там спиной к оливковому дереву, вероятно, все еще смотрит на заход солнца и думает, что сын у него в кармане?
77
Из оперы Россини "Танкред".
78
Намек на чисто турецкое, деспотическое правление в Ганновере.