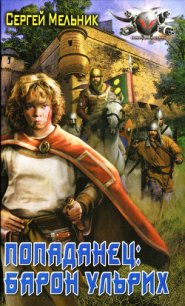Мюнхгаузен, История в арабесках - Иммерман Карл Лебрехт (бесплатные полные книги .TXT) 📗
Я был, как читатель видит, умен не по летам. Но коршун не обращал никакого внимания на мои протесты, а все летел и летел.
Блеск, выстрел, падение! Я лечу с неизмеримой высоты и лишаюсь чувств. Придя в себя от оглушения, оказываюсь на чем-то мягком и нигде не чувствую боли. Оглядываюсь на свое ложе. Это - карбонарский плащ из синего сукна, натянутый между двумя тамарисками. Под деревьями стоит высокий бледный человек с разряженным ружьем в руке; тут же валяется страшный коршун, истекая кровью, бьется крыльями о землю, корчится в судорогах и ловит воздух. Несколько поодаль пасется невзнузданная верховая лошадь.
- Я убил коршуна, - сказал великодушный британец, снял меня с карбонарского плаща, сунул мне руку для поцелуя и равнодушно добавил: - Вы будете у меня в долгу за это всю вашу жизнь, сэр. До свидания.
Он взнуздал лошадь, живописно перекинул плащ через плечо, сел на коня и уехал.
- Ради бога, милорд, неужели вы спасли меня для того, чтобы оставить среди этой пустыни в жертву голоду, жажде и диким зверям! - воскликнул я. - Заклинаю вас милостью неба, возьмите меня с собой на лошадь!
- Вы лишите меня комфорта, - холодно возразил великодушный англичанин и действительно ускакал, так что я скоро утерял его из виду.
- Жалкий человек, - сказал я глухо, - неужели таково великодушие Альбиона? Когда ты стрелял, ты думал об удовольствиях охоты, а не об образованном ребенке образованных родителей, о клопе, который так солоно достался своему отцу. Ступай, фальшивый, лицемерный брит, мы с тобой квиты! Вооружись всей своей английской надменностью. Я, немецкий мальчик, презираю тебя!
Этот монолог возвысил и укрепил мою душу. Я осознал долг чести по отношению к проклятому коршуну, который все еще ловил воздух и задыхался. Поэтому я подошел к нему и сказал:
- Смотрите в другой раз лучше, с кем имеете дело, пернатая скотина! Естественная история позволяет вам в исключительных случаях хватать подпасков, но не образованных детей образованных родителей.
Коршун вяло повернул ко мне мохнатый клюв и испустил дух, как мне показалось, с некоторым раскаянием в глазах.
Я оглядел местность. Ничего, кроме скал и утесов, нагроможденных друг на друга, а вдали еще более высокие кряжи. Лишайник, мох, вереск покрывали камни; альпийские розы высовывали красные головки; дикий лавр, тамариски, стручечник стояли кругом легкими, тонкими, живописными группами. Я находился на значительной высоте, где воздух был резок и прохладен, вероятнее всего, на одной из знаменитых греческих гор, так как коршун полетел со мною на юго-запад. Но на какой горе? Я пребывал в самой мучительной неизвестности относительно этого пункта, ибо понимал необходимость ориентироваться на месте, чтобы отыскать правильную дорогу в Салоники и левый карман, который, ввиду тяжелого опыта, полученного мной за короткое время от встречи с коршуном и англичанином, казался мне теперь потерянным раем.
Но как это узнать? Местность выглядит пустынной, и на ней нигде не видно ни одного животного, не то что человека. Сначала я хотел спросить судьбу, гадая по пуговицам мундира, нахожусь ли я на Этне, Парнасе, Олимпе, Пинде или Геликоне, но отбросил это средство информации как слишком детское и недостойное меня.
Наступала темнота, горные кряжи сделались фиолетовыми, голод и жажда начали меня мучить, а я все еще стоял один наверху. Я и мертвый коршун были единственными существами среди этой пустыни. Я мерз в легкой форме янычарского кадета, которую отец уже успел мне заказать. Она состояла из белых шаровар, скроенного по европейскому образцу красного колета с желтым галуном и тюрбана, который тогда еще не был упразднен. Маленькая жестяная сабля позвякивала у меня на боку, и, кроме того, я носил усы, разумеется, намалеванные углем.
Чтобы, по крайней мере, избавиться от жажды - так как для утоления голода там не было ничего, кроме стеблей и альпийских роз, - я подполз к источнику, вырывавшемуся из-под зеленоватых камней и окруженному здесь, у истоков, лавровыми деревьями. Я угадывал в этом источнике нечто необыкновенное: он являл такое соединение силы и прозрачности, которой не могло быть в обыкновенном ручье. Шипя и пенясь, вылетала струя к свету из-под мшистых камней, точно кипела, а на шаг дальше уже текла спокойно по своему руслу прозрачнейшая бериллово-зеленая влага, без пены и водоворотов.
Я нагнулся к воде и пригубил... Но что тут со мной стало! Во внутренностях я почувствовал рези, в крови волнение, в членах жар, в сердце биение, в голове брожение. Самые удивительные фантазии начали роиться у меня в мозгу. Мой красный янычарский колет превратился в Красное море, мои белые шаровары засверкали как альпийские снега, а жестяная сабелька показалась мне мечом Александра Великого. Я раскрыл губы, и они невольно продекламировали:
Таскаемый в кармане многодневно,
К самостоятельности тяготея,
Ты хищником был в когти схвачен гневно,
Но Альбион сломил башку злодея.
Когда ж ты после духом пал плачевно,
То вдруг узнал, в кипенье, в буре рдея,
Как сердце тает наподобье пены
Весенних смол в потоке Гиппокрены.
Да, я нечаянно испил воды из Гиппокрены и, следовательно, находился на Геликоне! Губы снова раскрылись и непроизвольно скандировали:
Горько доставшийся клоп добрейшего папы,
Взятый в кадетский сераль благого султана,
Отрок, жестяным мечом вооруженный,
Сбрось свой багряный колет, и штаны из батиста
Белые с тела стянув, просияй наготою
Строго античной!
Действительно, я скинул саблю, колет, тюрбан, шаровары - словом, все и вся, и как безумный валялся и крутился на траве, вдохновленный водою Муз. Уже в душу мне рвались новые образы, а на уста новые напевы. Я пел:
Мой свет, коль ищешь ты меня,
Трала!
Меня найдешь ты без огня,
Заза!
Сижу при лампе за столом
И в альманах строчу псалом.
Мой светик, будет этот том,
Трала!
Весь полон Господом Христом
Заза!
И цветиками, о и ах!
То будет "Музен-альманах".
Я немедленно принял решение написать Альманах Муз, написать весь альманах, чтобы заработать на хлеб насущный, ибо - воскликнул я
Зачем нам музыканты и все их инструменты?
Заставит чистый гений звучать все инструменты.
Играет он губою и всею пятернею
На губосладкотонном на флейтоинструменте.
Пиликает он тут же смычком, пришитым к локтю,
На струнами снабженном на скрипкоинструменте
И задом выбивает в то время на звенящем,
Для деток припасенном цимбалоинструменте.
А палки-колотушки у ляжек с хлястом пляшут
На брюхоотягченном литавроинструменте.
А голова артиста красуется красиво
В бунчужно-многозвонном турецком инструменте.
Так с шумом, стуком, треском, дутьем и перезвоном
Играл на пентафонном и сборном инструменте
Недавно некий мастер на рынке, упражняясь
На свистостукостонном гремящем инструменте...
Но этим мое вдохновение еще не было исчерпано. Образы и стихи, напевы и рифмы, лайхи, майстерзингеровские стансы, ассонансы, диссонансы, децимы, канцоны, терцины, песенки подмастерьев, поговорки, "африканское", "мадагаскарское", к такому-то, стихи на торжественные случаи, на память, послания, "рунические палочки", "в латах и кольчуге", "цветы и листья", "всякая всячина" [79] - все это и многое другое слетало с моих губ, неутомимо вдохновляемых чудодейственной водой. Мне кажется, что я, бедный, голый ребенок, воспел лирически в тот вечер на Геликоне свое детство по крайней мере на шесть дюжин разных образов и ладов. Я не знаю, не докричался ли бы я до смерти и не сделался ли бы жертвой лирики, если бы рок, спасший меня из когтей коршуна, не освободил бы также и от действия гиппокренского минерального источника.
Внезапно, в тот момент, когда я собирался излить свои ощущения в стиле обезглавленного готтентота, я почувствовал, что на меня налетают со всех сторон, через меня перебегают, меня обнюхивают, облизывают, толкают, топчут. Сбитый с ног, я не видел над собой и вокруг себя ничего, кроме желтых глаз, тонких ног, косматых и бородатых рож. Это было стадо диких коз с козлятками, забредшее сюда и встретившее меня довольно бурными приветствиями. Но мой первоначальный страх длился всего несколько мгновений. Я очень скоро сообразил, что попал в лапы добродушных существ, которые только в силу своей природы принуждены были столь нескладным способом выражать радость по поводу обретения маленького лирика. То были уже не кровожадные ягнятники, а ласковые, добрые козы с прекрасными сердцами. Все они воскликнули хором:
79
Пародия на заглавия некоторых современных Иммерману сборников стихотворений.