Искра жизни - Ремарк Эрих Мария (бесплатные полные книги txt) 📗
Вернер улыбнулся. Это была добрая, обезоруживающая улыбка.
— Было дело. И не раз. Тем не менее я снова задаю тебе этот вопрос. Время индивидуализма прошло. В одиночку больше нельзя. А будущее принадлежит нам. Не продажной середине.
Пятьсот девятый посмотрел на этого аскета.
— Когда все это здесь кончится, — произнес он нетерпеливо, — интересно, сколько потребуется времени, чтобы ты стал таким же моим врагом, как сейчас вот эти на сторожевых башнях.
— Немного. Здесь у нас было общество взаимопомощи в борьбе с нацистами. С окончанием войны оно отомрет само по себе.
Пятьсот девятый кивнул.
— Интересно было бы еще знать, когда после прихода к власти ты засадил бы меня за решетку?
— Скоро. Дело в том, что ты все еще опасен. Но пытать тебя мы не стали бы.
Пятьсот девятый пожал плечами.
— Мы посадили бы тебя в тюрьму и заставили работать. Или поставили бы к стенке.
— Это утешительно. Именно так я всегда представлял себе ваш золотой век.
— Зря иронизируешь. Ты же знаешь, что без принуждения никак нельзя. Поначалу принуждение — это оборона. Позже необходимость в нем отпадает.
— Не думаю, — возразил Пятьсот девятый. — В нем нуждается любая тирания. И с каждым годом все больше, не меньше. Такова ее судьба. И неизменный крах. Вот тебе наглядный пример.
— Нет. Нацисты совершили принципиальную ошибку, начав войну, которая им оказалась не по зубам.
— Это не было ошибкой. Это было необходимостью. Они просто не могли по-другому. Если бы им пришлось разоружаться и не нарушать мир, они бы обанкротились. И вас постигнет такая же судьба.
— Свои войны мы не проиграем. Мы их ведем по-другому. Изнутри.
— Да, изнутри и вовнутрь. Тогда вы сразу же можете сохранить эти лагеря. Да еще и пополнить их.
— Это мы можем, — ответил Вернер вполне серьезно. — Почему ты не хочешь быть с нами?
— Именно поэтому. Если после всего этого ты придешь к власти, то постараешься меня ликвидировать. А я тебя нет. Вот в чем суть.
Предсмертный хрип седоволосого узника раздавался теперь с большими паузами. Вошел Зульцбахер.
— Говорят, что завтра утром немецкие летчики будут бомбить лагерь. И все разрушат.
— А слухам все нет конца, — заметил Вернер. — Поскорее бы стемнело. Мне уже пора туда.
Бухер окинул взглядом белый домик на холме напротив лагеря. Он стоял между деревьями под косыми лучами солнца и, казалось, нисколько не пострадал. Деревья в саду светились ярким светом, будто тронутые первым бело-розовым вишневым цветом.
— Теперь ты, наконец, веришь? — спросил он. — Уже слышны их орудия. Они приближаются с каждым часом. Мы выйдем отсюда.
Бухер снова посмотрел на белый домик. Он был суеверен: пока домик цел и невредим — и с ними ничего не случится. Он и Рут останутся живыми и спасутся.
— Да, — Рут присела на корточки рядом с колючей проволокой.
— А куда мы пойдем? — спросила она.
— Прочь отсюда. Как можно дальше.
— Куда?
— Куда-нибудь. Может, еще жив мой отец.
Бухер в это не верил; но он не знал точно, умер его отец или нет. Об этом знал Пятьсот девятый, но никогда не говорил.
— А у меня никого больше не осталось, — проговорила Рут. — Я своими глазами видела, как их тащили в газовые камеры.
— Может, их просто отправили с другим транспортом. Или куда-нибудь еще. Ты ведь тоже осталась в живых.
— Да, — ответила Рут. — Я осталась в живых.
— В Мюнстере у нас был небольшой дом. Может, он еще стоит. У нас его забрали. Если он еще стоит, нам его, наверно, вернут. Тогда мы сможем там жить.
Рут Голланд молчала. Бухер посмотрел на нее и увидел, что она плачет. Он никогда не видел ее слез и решил, что это, наверно, от воспоминаний о погибших родственниках. Однако смерть была привычным делом в лагере, и ему казалось каким-то преувеличением испытывать такие глубокие переживания после столь долгих лагерных лет.
— Нам нельзя предаваться воспоминаниям, Рут, — проговорил он с некоторым нетерпением. — Иначе как мы сможем дальше жить?
— Это не воспоминания.
— Чего же ты тогда плачешь?
Сжатыми пальцами Рут вытерла слезы.
— Хочешь знать, почему меня не сожгли в газовой камере? — спросила она.
Бухер почувствовал, что сейчас услышит то, о чем ему лучше было бы не знать.
— Можешь мне об этом не рассказывать, — заметил он. — Но если хочешь, твое дело. Мне все равно.
— Это очень важно. Мне исполнилось семнадцать лет. Тогда я не была такой безобразной, как сейчас. Поэтому мне оставили жизнь.
— Да-а, — проговорил Бухер, ничего не понимая. Она поглядела на него. Он впервые увидел, что у нее прозрачные серые глаза. Раньше он этого просто не замечал.
— Тебе не ясно, что это такое? — спросила она.
— Нет.
— Мне сохранили жизнь, потому что требовались женщины. Молодые — для солдат. В том числе для украинцев, воевавших на стороне немцев. Теперь-то до тебя дошло?
Какое-то мгновение Бухер сидел как ошарашенный. Рут наблюдала за ним.
— Вот, что они из тебя сделали? — проговорил Бухер наконец. Он отвел от нее взгляд.
— Да. Вот, что они из меня сделали. — Больше она не плакала.
— Это неправда.
— Это правда.
— Я имею в виду другое. Я имею в виду, что ты сама этого не хотела.
Она горько усмехнулась.
— Какая разница!
Теперь Бухер пристально рассматривал ее. Казалось, в ней угасали все чувства. Но именно это превратило ее лицо в некую маску боли, из-за чего он вдруг почувствовал, а не только услышал, что она сказала правду. Он ощутил это до рези в животе, но вместе с ем он отказывался признать сказанное, он еще не был к этому готов — в данный момент он желал только одного, чтобы в его присутствии это лицо стало иным.
— Это неправда, — сказал он. — Это было против твоей воли. Тебя при этом не было. Ты в этом не участвовала.
Ее взгляд вернулся из пустоты.
— Но так было, и это трудно забыть.
— Никто из нас не знает, что он может забыть и что нет. Все мы должны забыть многое. Иначе мы с таким же успехом можем остаться здесь и умереть,
Бухер повторил что-то из сказанного накануне вечером Пятьсот девятым. Как давно это было? Прошли уже годы. Он несколько раз икнул.
— Ты жива, — проговорил он затем с некоторым усилием.
— Да, я жива. Я двигаюсь, я говорю слова, я ем хлеб, который ты мне перекидываешь через проволоку, — и прочее тоже живет. Живет! Живет!
Рут прижала ладони к вискам и посмотрела на него. Она разглядывает меня, — подумалось Бухеру, — она снова видит меня. Она не разговаривает теперь только с небом и с домиком на холме».
— Ты живешь, — повторил он. — И этого мне достаточно.
Она опустила ладони.
— Ты ребенок, — проговорила она безутешно. — Ты ребенок! Что тебе известно?
— Я не ребенок. Кто здесь был, не ребенок. Даже Карел, которому одиннадцать лет.
Она покачала головой.
— Я не это имею в виду. Теперь ты веришь в то, что говоришь. Но это не удержится. Явится другое. У тебя и у меня. Воспоминание, позже, когда…
«Почему она мне это сказала? — подумалось Бухеру. — Ей не надо было говорить мне: я бы этого не знал, и этого никогда бы не было».
— Я не знаю, что ты имеешь в виду, — сказал он. — Но думаю, на нас распространяются особые, необычные правила. Здесь в лагере есть люди, которые убивали людей, потому что так было необходимо, — он подумал о Левинском, — но эти люди не считали себя убийцами так же, как не считает себя убийцей солдат на фронте. И они правы. Точно так же и мы. К случившемуся с нами не приложимы нормальные мерки.
— Когда мы выйдем отсюда, ты будешь размышлять об этом по-другому… — Она посмотрела на него. Ей вдруг стало ясно, почему за последние недели она испытала так мало радости. Она ощущала страх — страх перед освобождением.
— Рут, — сказал он и почувствовал испарину. — Все прошло. Забудь это! Тебя принудили к тому, что в тебе вызывало отвращение. Что от этого осталось? Ничего. Ты в этом не участвовала; ты этого не хотела. В тебе же не осталось ничего, кроме отвращения.
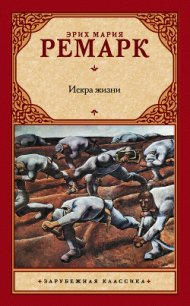


![Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса] - Ремарк Эрих Мария (читать книги онлайн бесплатно полные версии txt) 📗](/uploads/posts/books/21293/21293.jpg)
