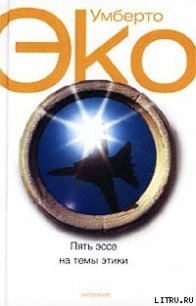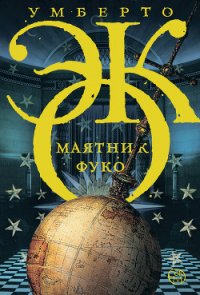Остров накануне - Эко Умберто (книга жизни .txt) 📗
26. ТЕАТР ЭМБЛЕМ [34]
Три дня Роберт не отлипал от запасного телескопа, сетуя, что первый, мощнее, привелся в негодность. Он наблюдал за береговой рощей. Ждал: взлетит Апельсинная Голубица.
На третий день, содрогнувшись, сказал себе, что утрачен единственный товарищ, сам он пропадает на этих далеких долготах, однако ждет утехи от пернатого, которое пропорхнуло, вероятно, только в бреднях утопшего иезуита!
Он решил переосвидетельствовать свою твердыню, чтоб понять, сколько времени продержится на борту. Куры продолжали класть яйца, вывелись цыплята. Что до собранных растений, выжили немногие, большая часть пересохла, их следовало отдать птицам. Воды имелись считанные бочонки, правда, в ближайшие дожди он рассчитывал пополнить запас. И, наконец, улов обещал быть регулярным.
Потом пришла мысль о том, что не имея зеленой пищи, он умрет от цинги. В оранжерее что – то зеленело, однако для полива требовались осадки. В период засухи, разве расходовать питьевой запас. А если грозы и бури зарядят на долгое время, питье накопится, но невозможным сделается рыболовство.
Дабы утихомирить печали, Роберт зачастил в залу с органом, от Каспара он научился пускать машину и без конца слушал «Дафну», менять валики не умел. Но его не утомляла мелодия, он отождествил корабль «Дафну» с естеством любимой женщины. Не Дафной ли звали ту, что претворилась в лавр, в древесный ствол, и не из стволов ли выстроен корабль? Значит, мелодия пела о Лилее. Как видим, цепь ассоциаций не блистала логичностью – но такие уж были ассоциации у Роберта.
Он корил себя, что из – за встречи с Каспаром отвлекся, схватился механическим соблазном и не блюл любовный обет. Единственная музыка, к которой он не знал слов, если слова, конечно, вообще имелись, стала молитвой, и он заповедал себе ежеденно исполнять ее на машине. «Дафна», воспроизводимая водой и ветром в тайницах «Дафны»: парабола пресуществления Дафны в мифе. Каждый вечер, созерцая небо, он тихонько напевал. Это было как литания. Потом возвращался в жилище и писал Лилее.
Работая, он задумывался о том, что предыдущую неделю провел на воздухе и в дневные часы, а теперь опять вдался в полутемь, в обычные для него условия не только житья на «Дафне» до появления Каспара, но всего десятилетия, прошедшего с казальского удара.
Правда, не верится, чтобы Роберт просуществовал все эти годы, как пытается показать, в ночном режиме. Что не злоупотреблял солнцепеком – вероятно; но за Лилеей он ходил в дневное время. Полагаю, недомогание сопрягалось больше с мрачным духом, нежели с глазным расстройством. Роберту свет мешал лишь при печали, а развлекаясь чем – то приятным, он не обращал вниманья на свет.
Независимо от того, что было тогда и прежде, в первый вечер он впервые философствовал о прелести тени. Пиша и подымая орудие, чтобы макнуть в чернила, он видел свет: то золотой ореол на листе, то восковую и прозрачную зыбь кругом контура пальцев. Свет будто прятался в кисть руки и выглядывал только с краю. Все обворачивалось сокровенною капуцинскою рясой, нежным ореховым свечением, которое трогало тень и умирало в тени.
Впериваясь в огонек свечи, Роберт угадывал там два жара: красный, прогрызавший поглощаемый воск, и второй, этот второй дыбился ослепительно – бело, исходил будто паром, удаляясь от собственного корня незабудкового цвета. Так, говорил Роберт, и моя любовь, питаясь отживающим организмом, приращивает плоть к небесному прообразу любимой.
Намереваясь отпраздновать после несколькодневного дезертирства свое возвращение в сумрак, он отправился на шканцы в то время как тени распространялись повсеместно, покрывая корабль, море, Остров, где теперь было заметно только скорое потемнение холмов. По деревенской привычке он попробовал разглядеть на берегу, есть ли там светляки, одушевленные крылатые искры, брызжущие в темных кустах. Светляков Роберт не обнаружил и поразмыслил о наоборотности антиподов, у которых, возможно, светляки делают свою работу в сияющий полдень.
Потом он разлегся на баке и запрокинул лицо под луну, предоставляя, чтоб его убаюкивало качанье мостков, в то время как с Острова докатывался плеск отлива, смешанный со стрекотаньем сверчков, то есть их аналогов здешнего полушарья.
Он раздумывал: краса дня напоминает красоту блондинки, между тем как краса ночи – черная прелестница. Смаковал противоречивость томления по светлой деве в самой густоте ночной черни. Вспоминал косы цвета урожая, затмевавшие другие источники света у Артеники, и делал вывод: луна тем хороша, что отражает своим мерцаньем лучи отсутствующего солнца. Пообещал себе использовать новообретенные дни, чтобы искать в бликах на океанской глади отсветы злата волос и голубизны глаз любимой.
Упивался красотами ночи, когда мнится, будто все отдыхает, и звезды движутся медлительнее, чем солнце, и кажется, что ты единственный в мире отдаешься мечтанью.
Ночью он почти дал слово, что обоснуется на корабле остаток жизни. Но, взирая на небеса, заметил стайку звезд, которые неожиданно объединились в голубиный абрис, с растопыренными крыльями и с масличною веточкой во рту. Вообще – то бесспорно, что на небе южного полушарья, неподалеку от созвездия Большого Пса, уже за сорок лет до того было открыто созвездие Голубя. Но я не слишком убежден, что Роберт с того места, где находился, в то время суток и в тот сезон года мог наблюдать именно это сочетание. Как бы то ни было, те, кто разглядел на небе птичку (как Иоганн Бауэр в «Uranometria Nova», или позднее как Коронелли в своей «Книге полушарий»), демонстрируют фантазию почище Робертовой. Я бы сказал, что любое расположение звезд в эту пору могло сложиться в глазах Роберта голубем, горлинкой, воркуном, сизарем, турманом, трубачом, клинтухом; хотя утром он усомнился в истинности ее существованья, но Апельсинная Летунья засела у него в голове как гвоздь, или, увидим мы позднее, как чистого золота булавка.
Действительно, попробуем дознаться, почему с первого полуслова иезуита среди всех прочих див, которыми мог очаровать Роберта Остров, именно порхающая Багряница оказалась на первом плане.
Мы увидим, сообразно тому, как станем исследовать повесть, что в воображении Роберта (которое от одиночества ото дня ко дню распалялось и распалялось) голубка, едва намечавшаяся в рассказе, приобретала тем большую реальность, чем менее реальна была возможность ее увидеть, это непознаваемое средоточие страстей любвеобильного Роберта: она вызывала восхищение, почтение, поклонение, упование, ревнование, зависть, ликование и восторг. Роберту было неясно (и потому неясно должно быть и нам), тождественна ли она Островине, или тождественна Лилее, или и той и другой, или вчерашнему дню, в котором все три любимые были в единстве; Роберту, заточенному в нескончаемом сегодня, будущее сулило некое необыкновенное завтра – когда он сможет совершить прыжок во вчера.
Можно было бы сказать, что Каспар привел ему на память Соломонову Песнь Песней, которую, кстати, и кармелит читывал не раз и вдолбил ему в голову; с отрочества медосладостная отрава точила его, томя по той, у кого глаза голубиные, по голубке, на чей лик любоваться и вслушиваться в ее голос в расщелинах скал… Однако все это мне годится лишь в определенной степени. Не обойтись, полагаю, без «Отступления о голубке», конспективной пробы трактата с рабочим названием «Голубица распространенная» («Columba patefacta»), и это не пустяшная трата места. Отводят же некоторые полные главы на рассуждения о Чувствах Китов, притом что киты – довольно простые черно – серые звери (в крайнем случае, белые, правда, их только один). Наш же предмет – rara avis (Редкая птица (лат.)) еще более невиданной расцветки, но из разряда птичек, о которых человечество высказывалось поактивнее, чем о китах.
В том – то и штука. Говорил ли он с кармелитом, дискутировал ли с отцом Иммануилом, встречал ли эту тему в трактатах, бывших в семнадцатом веке в великом почете, слушивал ли в Париже лекции о том, что тогда именовалось Эмблемами или Замысловатыми Картинами, худо – бедно Роберт был обязан кое – что знать о голубях.