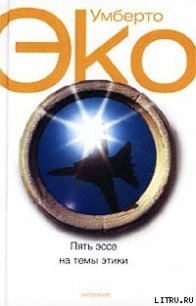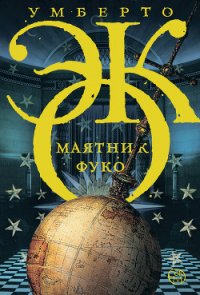Остров накануне - Эко Умберто (книга жизни .txt) 📗
Вспомним, что в означенную эпоху изобреталось и переизобреталось много рисунков, чтобы ухоранивать в них тайные зашифрованные смыслы. Завидев, не говорю уж цветок или крокодила, но даже и корзину, лестницу, сито или колонну, ее облепливали кучей смыслов, которые на первый взгляд к картинке отношения не имели. Не станем разбирать разницу между Гербом и Эмблемой, и как различными способами эти изображения сочетались с Девизами и Подписными стихами (скажем вкратце, что Эмблема идет от конкретного качества, не обязательно показанного на рисунке, к общему рассуждению; а Герб соотносит конкретный показываемый предмет со свойством или намерением конкретной личности, скажем «я непорочнее снега» или «хитроумнее змеи», или «умру, но не отступлюсь», в том же ряду вошедшие в пословицы «Frangar non Flectar» (Сломится, но не согнется (лат.)) и «Spiritus durissima cocuit» (Дух самое твердое переваривает (лат.))). Люди того столетия считали обязанностью преобразовывать мир в чащу Символов, Знаков, Конных Игрищ, Маскарадов, Живописностей, Языческих Трофеев, Почетных Добыч, Гербов, Иронических Рисунков, Монетных Чеканов, Басен, Аллегорий, Апологий, Эпиграмм, Сентенций, Двусмысленностей, Пословиц, Вывесок, Лаконичных Эпистол, Эпитафий, Комментариев, Лапидарных Гравировок, Щитов, Глифов, Медальонов… и тут позволю себе остановиться, хотя они не останавливались. Так, всякий порядочный Герб должен был быть метафоричен, поэтичен, должен был скрывать, разумеется, потаенную Душу, которую надлежит выискивать, но и прежде всего – иметь чувственное тело, воспроизводящее предмет мира. От Герба ожидались благородство, изумительность, новизна вместе со знакомостью, абстрактность вместе с реалистичностью, необычайность, пропорциональность пространству, острота и краткость, двусмысленность и прямизна, явность и загадочность, соответствие, уникальность, героизм.
Герб рождался в продумываниях и отражал тайные связи; это был стих, но не звучащий, а составленный из немого знака и из девиза, по поручению знака глаголящего к глазам. Герб был прециозен только в той степени, в которой замысловат. Его сиянье было блеском жемчужин и диамантов, являемых по очереди, по зерну. Герб рассказывал много, но нешумливо: там, где Эпическая Поэма требовала сюжета и эпизодов, а Историческая Повесть предполагала комментарии и речи, Гербу было достаточно пары линий и слога слова. Его ароматы источались неуловимыми флюидами, и лишь их учуяв, удавалось разглядеть предметы под личинами, как бывает, когда Чужеземцы или Маски. Герб утаивал более, нежели открывал. Дух не обременялся материей, а питался сутью. Герб обязан был быть (в терминологии, бытовавшей в тогдашней моде и нами уже употреблявшейся) предивным, то есть диковинным, попросту говоря удивительным.
Ну, и есть ли что предивнее Апельсинноокрашенной Голубицы? Спросим даже, есть что дивнее, нежели Голубица сама по себе? О, сокровищница смыслов, упрятанная в символе голубки! И каждый смысл тем острее, чем сильнее контрастирует с остальными.
Первыми заговорили о Голубе, естественно, египтяне, от самой стариннейшей «Иероглифики» Гораполлона, и среди многих созданий именно это животное почиталось наичистейшим, тем паче, что когда случались моровые болезни, осквернявшие и людей и вещи, от них спасены были те, кто питался голубями. Казалось бы, это объяснимо, поскольку голубь единственное существо, природой избавленное от желчи (от яда, который все одушевленные твари носят около печени), и говорил в свое время Плиний, что если захворает голубь, он поклюет листочек лавра и исцеляется. Лавр = Дафна, какие вам еще объясненья.
Однако при всей чистоте голубь являет собою и символ пагубы, ибо похотливостью себя вкрай изводит. Целые дни проводят они в поцелуях («удвоя лобзанья, дабы любящие уста смолкали») и переплетая языки; от того родятся многие выраженья (голубиться в смысле любиться), используемые поэтами. Не будем забывать: Роберту не могли быть неведомы строки «Где, смешивая жаркий пот лица, /на ложе, в исступлении желаний, /голубясь, сладострастные сердца/берут друг с друга урожай лобзаний…». Заметьте, что если прочие скоты имеют время для любви, у голубя нет сезона года, когда бы он не крыл голубку.
Начнем с того, что происходят голуби с Кипра, острова, посвященного Венере. Апулей, да и кое – кто до Апулея, рассказывает, что колесница Венеры влечется белоснежными голубями, зовомыми как раз Венериною птицей по крайней любчивости. Другие помнят, что Греки называли «peristera» голубку, потому что в нее превратилась по воле ревнивого Эрота нимфа по имени Перистера, излюбленная Венерой, которая помоществовала ей в соревновании, кто больше сберет цветов (что, кстати, подразумевается под «излюбленная»?).
Элиан пишет, что голубки были посвящены Венере, потому что на горе Вересковой в Сицилии устраивался праздник, когда богиня пролетала над Ливией; в этот день года над всею Сицилией нельзя было видеть голубя, потому что все они пересекали море, чтоб эскортировать богиню. После этого, через девять дней, от ливийских побережий прибывала на трехконечную Тринакрию (Сицилию) голубица «цвета огненного», свидетельствует Анакреон (прошу вас обратить внимания на эту окраску перьев), и это была сама Венера, не случайно именовавшаяся Алоцветной, а за нею летело толпище прочих голубиц. Тот же Элиан повествует о какой – то девице по имени Фития, Юпитер любил ее и превратил в голубиную самку.
Ассирийцы изображали Семирамиду в голубином облике, Семирамида была вскормлена голубями и потом сама сделалась как они. Нам всем известно, что она была дама небезукоризненного обычая, но такая красивая, что Скавробат, царствовавший над индусами, влюбился в нее отчаянно, а она была наложница ассирийского властелина, и не пропускала ни дня, дабы не учинить измену царю ассирийцев, и историк Иуба пишет, что она умудрилась любить даже лошадь.
Однако любовному символу извиняются любые дури, он все равно притягивает поэтов, и потому (можно ли предположить, что Роберт не знал?) Петрарка спрашивает себя «какая благодать, любовь, судьба/ даст перья мне, подобно голубице?», а Банделло пишет: «Тот голубок, мне равный по пыланью/ терзается Амуровым огнем/ взыскует темной ночью, светлым днем/ голубушку, и гибнет от желанья».
Голубушки важнее, голубушки притягательнее Семирамид, и в них влюбляются за нежнейшее умение: они рыдают, иначе говоря стонут, вместо того чтоб петь, как если бы бесконечное удовлетворение все же не насыщало их страстность. «Idem cantus gemitusque(Едины пенье и стенанье (лат.))» – гласит одна из эмблем Камерариуса. «Gemitibus gaudet» (Стеная ликует (лат.)) – вторит другая, еще более эротически – интригующая картинка. Впору с ума сойти, правое слово.
И тем не менее, истекая сластолюбьем и изнемогая в лобызаниях, голуби – о дивное противоречие, их от всех прочих отличающее! – тем самым демонстрируют, до чего полны верности, и становятся символом целомудрия, по крайней мере в брачном сожительстве. Плиний свидетельствует: при всех прелюбах они стыдливы и не ведают вероломства. Их супружескую обходительность подмечают и Тертуллиан, и язычник Пропорций, пиша, что, кстати, в тех редких случаях, когда есть подозрение в адюльтере, петушки становятся самовластны, в их голосе слышатся упреки, и жестоко, бывает, они избивают супружницу клювом. Но после этого сразу, дабы избыть нанесенный ущерб, молодчик улещивает даму и заискивает, бегая вокруг ея частыми кругами. Эта идея, что безумной ревностью подпитывается любовь, а значит, укрепляется преданность (и вновь несчитанные поцелуи в любую пору года и в любое время дня) мне представляется довольно милой, и, как увидим, безмерно милой показалась нашему Роберту.
Можно ль не возлюбить символ, обещающий взаимность? Верность даже за гробовой чертою, потому что утратив напарника, голуби не спариваются с другими. Голубица является эмблемой честного вдовенья. Ферро рассказывает о вдове, которая, по утрате мужа, держала белую голубку и, будучи укорена, отвечала: «Dolor non color»; что – де не колер, а печаль имеет важность.