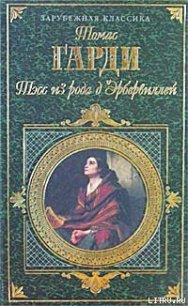Возвращение на родину - Гарди Томас (полные книги .TXT) 📗
- Это мой муж и его мать, - прошептала она прерывающимся голосом. - Что это может значить? Подойдите туда, потом скажете мне.
Уайлдив оставил ее, где она стояла, и подошел к задней стене лачуги. Затем Юстасия увидела, что он ее манит, и тоже подошла.
- Тяжелый случай, - сказал Уайлдив.
Отсюда им было слышно, что происходит внутри.
- Понять не могу, куда она шла, - говорил кому-то Клайм. - Очевидно, проделала большой путь, но куда - не захотела сказать, даже вот сейчас, когда могла говорить. Что, собственно, с ней, как вы считаете?
- Положение опасное, - ответил серьезный голос, в котором Юстасия узнала голос единственного в округе врача. - Оно еще несколько ухудшилось от укуса гадюки, но главное тут истощение сил. Мне кажется, она прошла исключительно большое расстояние.
- Я ей всегда говорил, что нельзя ей много ходить в такую погоду, горестно сказал Клайм. - А правильно мы сделали, что мазали ранку гадючьим жиром?
- Да, это старинное средство; кажется, именно его употребляли в старину ловцы змей, - отвечал врач. - О нем, как о безотказном средстве, упоминается у Гофмана, у Мида и, если не ошибаюсь, у аббата Фонтана. Без сомнения, это лучшее, что вы могли сделать в такой обстановке, хотя для меня еще вопрос, не окажутся ли некоторые другие масла столь же действенными.
- Идите сюда, скорей, скорей! - быстро проговорил мягкий женский голос, и слышно было, как Клайм и доктор пробежали вперед из заднего угла, где они до сих пор стояли.
- Ох, что там? - прошептала Юстасия.
- Это Томазин говорила, - сказал Уайлдив. - Значит, они ее уже привезли. Мне бы, пожалуй, следовало туда пойти, да боюсь, как бы хуже не сделать.
Долгое время внутри царило молчание; его нарушил Клайм, испуганно проговорив:
- Доктор, что это значит?
Врач ответил не сразу, под конец сказал:
- Она быстро слабеет. Сердце у нее и раньше было поражено, а физическое истощение нанесло последний удар.
Потом был женский плач, потом ожидание, потом приглушенные возгласы, потом странный задышливый звук, потом тишина.
- Конец, - сказал доктор.
И в глубине хижины поселяне прошептали:
- Миссис Ибрайт умерла.
Почти в ту же минуту Уайлдив и Юстасия увидели, что перед открытой стороной навеса обрисовалась худенькая, по старинке одетая детская фигурка. Сьюзен Нонсоч, узнав сына, подошла к выходу и махнула ему рукой, чтоб уходил.
- Я должен тебе что-то сказать, мама, - пронзительным голосом прокричал мальчик. - Вон та женщина, что сейчас спит, - мы с ней сегодня шли вместе; и она сказала, чтобы я тебе сказал, что я ее видел и что она женщина с разбитым сердцем, которую отверг родной сын, и тогда я пошел домой.
Неясное рыданье послышалось внутри, и Юстасия тихо ахнула:
- Это Клайм! Я должна бы пойти к нему - но смею ли я?.. Нет. Уйдем.
Когда они уже довольно далеко отошли от навеса, она хрипло проговорила:
- Во всем этом виновата я. И теперь беды мне не миновать.
- Разве ее в конце концов не пустили в дом?
- Да. От этого-то все и вышло... О, что же мне теперь делать!.. Нет, я не буду им мешать, пойду прямо домой. Дэймон, прощайте! Сейчас я больше не могу с вами говорить.
Они расстались; и, взойдя на следующий холм, Юстасия оглянулась назад. Печальная процессия двигалась при свете фонарей от лачуги по направлению к Блумс-Эиду. Уайлдива нигде не было видно.
КНИГА ПЯТАЯ
РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ГЛАВА I
"НА ЧТО ДАН СТРАДАЛЬЦУ СВЕТ [27]..."
Однажды вечером, примерно через три недели после похорон миссис Ибрайт, когда серебряное лицо луны бросало связку лучей прямо на половицы домика в Олдерворте, из передней его двери вышла женщина. Она подошла к садовой калитке и оперлась на нее, видимо, не имея другой цели, как просто немного проветриться. Бледное лунное сияние, которое уродин превращает в красавиц, сообщало божественность этому лицу, и без того прекрасному.
Она еще недолго стояла там, когда на дороге показался мужчина и, приблизившись, нерешительно спросил:
- Простите, мэм, как он сегодня?
- Лучше, но все-таки очень плох, Хемфри, - отвечала Юстасия.
- Все бредит, мэм?
- Нет. Теперь он в полном сознании.
- И по-прежнему все о матери говорит, бедняга? - продолжал Хемфри.
- Да, не меньше прежнего, но немного спокойнее, - сказала она тихо.
- Вот ведь какое несчастье, что мальчонка этот, Джонни, последние материны слова ему передал - насчет разбитого сердца и что родной сын ее отверг. Этакое услыхать - всякий расстроится.
Юстасия ничего не ответила, у нее только вырвался короткий вздох, как будто она пыталась заговорить, но не могла, и Хемфри, видя, что она не расположена продолжать разговор, Двинулся обратно, домой.
Юстасия повернулась, вошла в дом, поднялась в спальню, где горела притененная лампа.
- Это ты, Юстасия? - спросил он, когда она села.
- Да, Клайм. Я выходила к калитке. Луна так чудно сияет, и ни один лист не шелохнется.
- Сияет?.. Что до луны такому, как я? Пусть сияет - пусть все будет, как будет, только дал бы мне бог не увидать завтрашнего дня!.. Юстасия, я не знаю, куда деваться, - мои мысли пронзают меня, как мечами. Если кто захочет обессмертить себя, написав картину самого жалкого несчастья, пусть приходит сюда!
- Зачем ты так говоришь?
- Я не могу забыть, что я все сделал, чтобы убить ее.
- Это неверно, Клайм.
- Нет, это так; нечего искать мне оправданий. Я вел себя отвратительно - я не пошел ей навстречу, а она не могла заставить себя простить мне. А теперь она умерла! Если б только я немножко раньше показал ей, что готов помириться, если бы мы уже опять стали друзьями и потом она умерла, было бы не так ужасно. Но я ни разу не пришел к ней, и она ни разу не пришла ко мне и так и не узнала, с какой радостью ее бы встретили, - вот что меня мучит. Она так и не узнала, что я в этот самый вечер уже шел к ней, - она была без сознания и не поняла меня. Ах, если б только она пришла ко мне! Я так ждал ее. Но этому не суждено было быть.
У Юстасии вырвался один из тех судорожных вздохов, которые потрясали ее, как лихорадочная дрожь. Она еще не призналась ему.
Но, слишком поглощенный своими бессвязными мыслями, порождением раскаяния, Ибрайт не замечал ее. Всю свою болезнь он почти безостановочно говорил. Первоначальное его горе было доведено до степени отчаяния так некстати случившимся появлением мальчика, принявшего последние слова миссис Ибрайт - слишком горькие слова, произнесенные в час заблуждения. И тогда горе раздавило его, и он стал жаждать смерти, как пахарь жаждет тени. Жалкое зрелище - человек, помещенный в самый фокус душевной боли. Он все время оплакивал свое слишком позднее решение пойти к матери, так как это была ошибка, которую уже нельзя исправить, твердил, что, наверно, его сознание было мерзостно извращено каким-то демоном, иначе он давно бы понял, что его долг пойти к матери, раз она не идет к нему. Он требовал, чтобы Юстасия соглашалась с его самообвинениями, и когда она, сжигаемая изнутри тайной, которую не смела открыть, отказывалась судить кого бы то ни было, он говорил: "Это потому, что ты не знала моей мамы. Она всегда была готова простить, если ее просили. Но ей казалось, что я веду себя, как упрямый ребенок, и это делало ее неуступчивой. Да не то чтобы неуступчивой - гордой и замкнутой, только и всего... Я понимаю, почему она так долго не сдавалась. Она ждала меня. Наверно, сто раз говорила с болью в сердце: "Вот его благодарность за все жертвы, которые я принесла ради него!" А я все не шел! А когда уж собрался, было поздно. Ах, одна мысль об этом невыносима!
Временами он испытывал одно голое раскаяние, не смягченное ни единой слезой беспримесного горя; и тогда он метался в постели, воспаленный мыслью больше, чем телесным недугом.