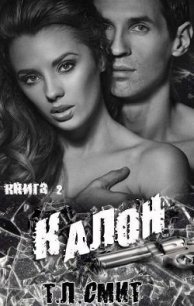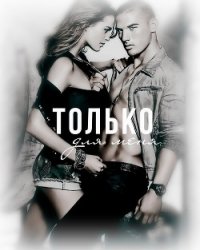Чудная планета (Рассказы) - Демидов Георгий (книги серии онлайн TXT) 📗
Валерий Локшин, бывший студент консерватории, был мобилизован на фронт с выпускного курса в суматохе первых дней войны. И вместе с целым корпусом таких же необстрелков почти сразу же угодил в один из коварных немецких «котлов». Из плена его освободили наступающие части Советской армии весной 1944 года. Тогда же он был отдан под суд как изменник и предатель Родины и одним из последних пароходов навигации доставлен на Колыму.
Корпус Локшина маленькими группами и поодиночке почти полностью сдался в плен еще до издания знаменитого сталинского указа, приравнивавшего такую сдачу к воинской измене. Возможно, что бывший военнопленный и проскочил бы сквозь плотный фильтр комиссий Особого отдела, таких военнопленных проверявшего. Но тут выяснились некоторые особенности поведения Локшина в плену, отодвинувшие на второй план такие формальные обстоятельства, как вопрос о точной дате его пленения. Несложное дознание показало, что это было поведение беспринципного приспособленца, для которого собственная шкура дороже национального и воинского достоинства. Без пяти минут выпускник высшей музыкальной школы использовал свой талант и образование для развлечения немецкой охраны лагеря военнопленных. В лагерной кордегардии и доме коменданта он давал целые концерты русской музыки, получая за это хлеб, сало и даже шнапс. Недаром Локшин оказался в числе тех немногих русских, которые не только выжили в немецком плену, но имели куда менее истощенный вид, чем их товарищи.
Говорили, что Локшин был учеником знаменитого профессора пения, сулившего ему будущность «советского Карузо», и что для этого профессора его откопал среди участников колхозной самодеятельности в каком-то селе один из энтузиастов поиска самородных талантов. И то и другое очень походило на правду. Голос Локшина и его умение владеть им говорили сами за себя. Крестьянское же происхождение несостоявшегося Карузо подтверждалось его приспособленностью к физическому труду, примитивным условиям жизни и той простотой взгляда на вещи, которая почти не встречается у интеллигентов, особенно потомственных. Отсюда же, несомненно, и готовность, с которой Локшин пользовался своим голосом для увеличения шансов выжить. Так было в немецком концлагере, так повторилось и в отечественном.
Многие люди, особенно из числа тех, перед которыми жизнь никогда не ставила подобных вопросов, склонны судить об этом с высоты чистого принципа. Конечно же, пленный советский солдат не имел морального права ублажать врагов своей родины исполнением перед ними «Меж крутых бережков» и «Вдоль по улице метелица метет», даже если дело шло о спасении его жизни. Быть столь принципиальным в условиях сытости и комфорта нормальной жизни, конечно, не трудно.
Но даже осудивший Локшина свирепый фронтовой трибунал вряд ли усмотрел бы состав преступления в том, что он повторял эти песни перед товарищами по заключению в Колымском лагере. Таким способом он тоже «сшибал» тут «куски», то есть, попросту говоря, выпрашивал пением подаяния. Устав лагерей обычного режима не то чтобы разрешал такие пения, но он их и не запрещал, особенно в промежутке между вечерней поверкой и отбоем. Тем более что на того, кто пел, нельзя было цыкнуть, что тут для этого не место, и отослать в КВЧ. Она у нас, как уже говорилось, бездействовала.
Недаром бывший студент консерватории пел и с эстрады сельского клуба, и в оперной студии. Репертуар у него был широчайший — от колхозных частушек до труднейших арий из классических опер. Пользовался этим репертуаром он весьма умело, точно учитывая уровень музыкального развития слушателей, их вкусы и настроение. В общих бараках, в которых Локшин выступал поначалу, такими слушателями являлись люди, душевному состоянию которых всего ближе была тема разлуки с любимой женщиной, семьей и родными местами. Все эти песни входили в репертуар певца, почти ежевечерне обходившего бараки работяг после ужина, хотя в течение всего дня он наравне с ними работал на приисковом полигоне.
У Локшина был сильный лирический тенор с теми особенностями звучания, которые всегда поражали людей своим таинственным действием на сознание. И не морской прибой, как в мифе об Орфее, а барачный галдеж неизменно стихал, как только от порога доносился его голос. Смолкали даже спорившие из-за места у печки или очереди получать вечернюю пайку с горбушкой. Неказистый с виду парень, казавшийся чуть приземистым в своем ватном одеянии, незаметно входил в барак, делал два-три шага вперед, разматывал одеяльный шарф, которым было тщательно укутано его горло, и сразу же, безо всяких усилий брал нужную ноту. В больших бараках ни в какие разговоры со слушателями по поводу того, что им спеть, он не вступал и песню исполнял только одну, повторяясь не чаще, чем один раз в несколько дней. Выслушивали эту песню всегда с тем вниманием, с которым слушают только то, что проникает в самое сердце. И всегда находился кто-нибудь, кто на грустных словах о женственной рябине, обреченной весь свой век качаться в разлуке с могучим, но таким же одиноким дубом, украдкой смахивал заскорузлой рукой слезы с обветренных щек. А потом такие же руки тянулись к певцу с остатками паек, нередко сэкономленных специально для него: «Спасибо… Возьми вот…» Локшин принимал их с равнодушно вежливым видом, как будто это были не куски хлеба, а букеты цветов от поклонников его таланта. И складывал эти куски в огромный карман из мешковины, собственноручно нашитый им на бушлат. К своему романтическому дару он относился с прозаическим реализмом крестьянина.
Но относительно обильным подаяние было только в первые недели его появления здесь. Вскоре наступила зима, с ее не только холодом, но и голодом. Зимой хлеба требуется намного больше, а заработать его заключенным становится намного труднее. Даже самые сильные и выносливые из подневольных работяг «садились» едва ли не на штрафной паек. Подавать певцу стало почти нечего. Он тоже начал голодать, а это, как известно, весьма вредно отражается на голосовых связках. Еще хуже действовал на них морозный воздух. Голос Локшина стал сипнуть, а на многих нотах он нередко «пускал петуха». Теперь, когда, кивнув на прощание своим слушателям, старавшимся на него не смотреть, он уходил от них с достойным видом, но пустым карманом, это была всего лишь хорошая мина при совсем плохой игре.
Надо было что-то предпринимать. Но недаром в обвинительном заключении по делу Локшина было записано, что он — изворотливый приспособленец, позорящий честь воина, советского человека и представителя артистического мира. Уразумев за месяц своего пребывания в лагере, от кого в громадной степени зависит тут жизнь рядового заключенного, он переключился на обслуживание своим пением сильных лагерного мира. Теперь его голос всё чаще слышался то из «сучьего закута» — так называлось здесь помещение для главных лагерных придурков, то из санчасти, где он пел перед лекпомом, то из лагерной кухни. Но всего чаще Локшин пел в закуте. Это было отделение, в котором жили староста, нарядчик, старший повар и старший хлеборез. Здесь было просторно, светло, тепло и чисто. А главное, старания певца никогда не оставались неоплаченными. В хлеборезке ему почти каждый день выдавали мешочек хлебных крошек, накапливающихся при разрезке буханок на мелкие пайки, в столовой он подкармливался остатками баланды и каши. Локшин быстро и заметно поправился, а его голос приобрел почти прежнюю силу и чистоту.
Переориентация на старшую лагобслугу имела для него еще одно благоприятное последствие. Теперь певец довольно часто оставался в зоне, отставленный от развода то нарядчиком, то старостой, то лекпомом, которому освободить заключенного от работы было легче всего. Повысилась-де температура, или возникло «подозрение на дизентерию». Но больше всех благоволил к Локшину здешний нарядчик, большой любитель музыки, правда, самого невысокого разряда. Он бы охотно, несмотря на изменническую статью и первую категорию трудоспособности, перевел его на работу полегче, чтобы сделать чем-то вроде постоянного придворного певца «закута». Этому мешало, однако, враждебное отношение к Локшину здешнего начальника лагеря, занудливого и злобного бурбона, каких нечасто можно встретить даже среди колымских лагерных прохиндеев. Поэтому нарядчик свой властью только изредка мог оставить певца в зоне, и то когда начлага в лагере не было.