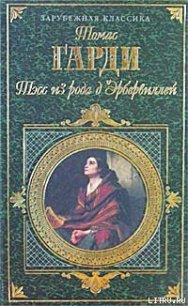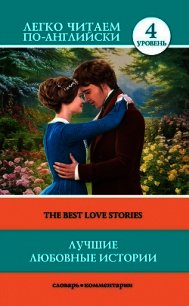Мэр Кестербриджа - Гарди Томас (полная версия книги TXT) 📗
Он испытывал не только горечь того, кто, оглядываясь на свое честолюбивое прошлое, видит, что принесенные им в жертву чувства стоили не меньше приобретенных им материальных благ; он испытывал еще большую горечь при мысли о том, что его отречение ничего ему не дало. Во всем этом он раскаялся уже давно, но его попытки заменить честолюбие любовью потерпели такой же крах, как и его честолюбивые замыслы. Его оскорбленная жена свела на нет эти попытки, обманув его с такой великолепной наивностью, что ее обман казался чем-то почти добродетельным. Как странно, что все эти нарушения законов общества породили такой цветок природы, как Элизабет-Джейн. Желание Хенчарда умыть руки — отказаться от жизни — отчасти объяснялось тем, что он понял всю ее противоречивую непоследовательность, — бездумную готовность природы поддерживать еретические социальные принципы.
Приход его сюда был актом покаяния, и отсюда он решил уйти далеко, в другую часть страны. Но он не мог не думать об Элизабет и о тех краях, где она живет. Поэтому центробежной силе его утомления жизнью противодействовала центростремительная сила его любви к падчерице. В результате он не пошел прямым путем — все дальше и дальше от Кестербриджа, — но постепенно, почти бессознательно уклонялся от избранного направления, и путь его, как путь канадского лесного жителя, мало-помалу пошел по окружности, центром которой был Кестербридж. Поднимаясь на какой-нибудь холм, Хенчард ориентировался, как мог, по солнцу, луне и звездам, пытаясь уяснить, в какой стороне находятся Кестербридж и Элизабет-Джейн. Он насмехался над собой за свою слабость, но тем не менее каждый час, пожалуй даже каждые несколько минут, старался представить себе, что она сейчас делает, как она сидит и встает, как она уходит из дому и возвращается, пока мысль о враждебном ему влиянии Ньюсона и Фарфрэ не уничтожала в нем образа девушки, подобно тому как порыв холодного ветра уничтожает отражение в воде. И он тогда говорил себе:
«Дурак ты, дурак! И все это из-за дочери, которая тебе вовсе не дочь!»
Наконец он нашел работу по себе, так как осенью на вязальщиков сена был спрос. Он поступил на скотоводческую ферму близ старой западной большой дороги, которая соединяла новые деловые центры с глухими поселками Уэссекса. Он хотел поселиться по соседству с большой дорогой, полагая, что здесь, в пятидесяти милях от той, которая была ему так мила, он будет ближе к ней, чем в месте, наполовину менее отдаленном от Кестербриджа, но расположенном не у дороги.
Таким образом, Хенчард вернулся в прежнее состояние— то самое, в каком он пребывал двадцать пять лет назад. Казалось бы, ничто не мешало ему вновь начать подъем и, пользуясь приобретенным опытом, достичь теперь большего, чем могла в свое время достичь его едва проснувшаяся душа. Но этому препятствовал тот хитроумный механизм, который создан богами для сведения к минимуму человеческих возможностей самоусовершенствования, — механизм, который устраивает все так, что уменье действовать приходит тогда, когда уходит воля к действию. У него не было ни малейшего желания вторично превращать в арену мир, который стал для него просто размалеванными подмостками, и только.
Обрезая ножом душистые стебли сухой травы, он часто раздумывал над судьбами человечества и говорил себе: «И здесь, и всюду люди умирают раньше времени, как листья, побитые морозом, хотя эти люди нужны своим семьям, и родине, и всему миру, а я, отщепенец, обременяющий землю, не нужный никому и презираемый всеми, живу против своей воли!»
Нередко он внимательно прислушивался к разговорам на большой дороге, и, конечно, не из простого любопытства, но в надежде, что кто-нибудь из путников, идущих в Кестербридж или возвращающихся оттуда, рано или поздно заговорит о нем. Город был так далеко, что желание Хенчарда вряд ли могло исполниться, и все-таки его внимание было вознаграждено: наконец до него донеслось с дороги слово «Кестербридж», произнесенное возчиком, который правил фургоном. Хенчард побежал по полю, на котором работал, к калитке в изгороди и окликнул возчика, человека ему незнакомого.
— Да… я еду оттуда, — сказал возчик в ответ на вопрос Хенчарда. — Я, знаете ли, занимаюсь извозом, хотя в нынешние времена, когда люди обходятся без лошадей, моей работе скоро конец придет.
— А как там дела в городе, а?
— Да все так же, как всегда.
— Я слышал, что мистер Фарфрэ, бывший мэр, собирается жениться. Правда это?
— Вот уж, право, не могу сказать. Да нет, как будто нет.
— Что ты, Джон… ты позабыл, — вмешалась какая-то женщина, выглянув из фургона. — А посылки-то, что мы привезли ему на той неделе? И люди говорили, что скоро свадьба… на Мартинов день.
Возчик сказал, что ничего такого не помнит, и фургон, дребезжа, стал подниматься на холм.
Хенчард был уверен, что этой женщине память не изменила. Очень возможно, что свадьбу назначили на Мартинов день, — ведь ни у жениха, ни у невесты не было причин откладывать ее. Хенчард мог бы, конечно, написать Элизабет и спросить, но ему мешала инстинктивная боязнь нарушить свое уединение. А ведь Элизабет, расставаясь с ним, сказала, что ей будет неприятно, если он не придет к ней на свадьбу.
Теперь он постоянно вспоминал, что прогнали его не Элизабет и Фарфрэ, а собственное уязвленное самолюбие, твердившее, что его присутствие уже не желательно. Он поверил в возвращение Ньюсона, не имея убедительных доказательств того, что капитан действительно намерен вернуться, еще того менее, — что Элизабет-Джейн встретит его радостно, и не имея уж вовсе никаких доказательств того, что если он и вернется, то останется. А что, если он ошибся? Если все эти неблагоприятные обстоятельства вовсе не требовали его вечной разлуки с той, которую он любит? Сделать еще попытку пожить возле нее, вернуться, увидеть ее, оправдаться перед нею, просить прощения за обман, всеми силами постараться, сохранить ее любовь — ради этого стоит пойти к ней, даже рискуя получить отпор, да, пожалуй, рискуя и самой жизнью.
Но как отказаться от своих решений, не дав супругам повода презирать его за непоследовательность, — этот вопрос казался Хенчарду страшным и лишал его покоя.
Еще два дня он все обрезал и обрезал тюки сена, потом колебания его внезапно закончились отчаянным решением отправиться на свадебный пир. От него не ждут поздравлений, ни письменных, ни устных. Элизабет была огорчена его решением не приходить на свадьбу, значит, его неожиданное появление заполнит ту маленькую пустоту, которая, вероятно, образуется в ее справедливой душе, если он не придет.
Стремясь как можно меньше навязывать свою особу другим в день радостного события, с которым эта особа никак не гармонировала, он решил прийти на свадьбу не раньше вечера, когда общество уже развеселится и во всех сердцах возникнет кроткое желание забыть прошлые счеты.
Он вышел пешком за два дня до праздника святого Мартина, рассчитав, что будет проходить по шестнадцати миль в каждый из оставшихся трех дней, включая день свадьбы. На его пути лежал только один довольно большой город — Шотсфорд; здесь он остановился на вторую ночь не только для отдыха, но и для того, чтобы подготовиться к завтрашнему вечеру.
У него не было другой одежды, кроме того рабочего платья, которое он носил, грязного, обтрепавшегося после двух месяцев беспрерывной носки; а он не желал портить Иззи праздник, хотя бы своим внешним видом, и зашел в магазин, чтобы сделать кое-какие покупки. Он купил куртку и шляпу — простые, но приличные, — новую рубашку и шейный платок и, решив, что теперь наружность его уже не может оскорбить Элизабет, занялся более интересным делом — покупкой подарка для нее.
Что ему подарить ей? Он бродил взад и вперед по улице, поглядывая с сомнением на витрины, удрученный сознанием, что те вещи, которые ему хотелось бы купить, не по его нищенскому карману. Наконец взгляд его упал на клетку с щеглом. Клетка была простая, маленькая, лавка — скромная, и, спросив цену, Хенчард решил, что может позволить себе такой небольшой расход. Проволочную тюрьму птички обернули газетной бумагой, и, взяв с собой клетку, Хенчард отправился на поиски ночлега.