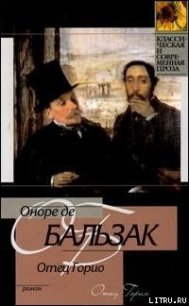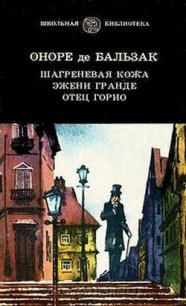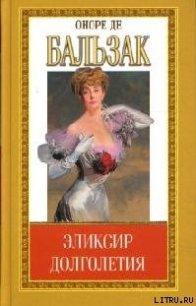Сочинения - де Бальзак Оноре (книги регистрация онлайн .TXT) 📗
– Когда юноша двадцати одного года начинает самостоятельную жизнь с доходом в восемнадцать тысяч франков – считайте, что он разорен, – заметил Кутюр.
– Если только он не скряга или не выдающийся человек, – вставил Блонде.
– Годфруа побывал в четырех главных городах Италии, – продолжал Бисиу , – повидал Германию и Англию, был в Санкт-Петербурге, объездил Голландию. Но он так быстро растратил упомянутые тридцать тысяч франков, словно получал тридцать тысяч франков годового дохода. Он везде находил сюпрем-де-воляй, аспик и французские вина, везде слышал французскую речь – будто и не выезжал из Парижа. Ему хотелось бы немного развратить свое сердце, одеть его в броню, утратить свои иллюзии, научиться слушать все, не краснея, болтать, ничего не говоря, проникать в тайные замыслы держав… Куда там! Он лишь овладел, и то с трудом, четырьмя языками, то есть запасся четырьмя словами на каждое понятие. Годфруа вернулся вдовцом нескольких скучных вдов (это называется за границей «иметь успех»); застенчивый, с неустановившимся характером, доверчивый добряк, неспособный дурно отзываться о людях, которые оказывают ему честь, принимая его у себя, слишком чистосердечный, чтобы быть дипломатом, – словом, как говорится, честный малый.
– Короче – желторотый птенец, готовый предоставить свои восемнадцать тысяч франков ренты к услугам первых встречных акционеров, – вставил Кутюр.
– Этот чертов Кутюр так привык авансом тратить свои дивиденды, что хотел бы получить авансом и развязку моего рассказа. На чем же я остановился? На возвращении Боденора. Когда он обосновался на набережной Малакэ, выяснилось, что тысячи франков, остававшейся у него сверх необходимых расходов, не хватает на место в ложе у Итальянцев и в Опере. Если он проигрывал на пари двадцать пять – тридцать луидоров, он их, конечно, платил, а если выигрывал – то тратил, что, несомненно, происходило бы и с нами, будь мы настолько глупы, чтобы биться об заклад. Боденору не хватало его восемнадцати тысяч франков в год, и он почувствовал необходимость создать то, что мы зовем теперь оборотным капиталом . Он считал крайне важным не запутаться в долгах. Годфруа направился за советом к своему опекуну. «Дитя мое, – сказал ему д'Эглемон, – рента котируется сейчас по номиналу. Продай свою. Я уже продал ренту – и мою, и жены. Все наши деньги теперь у Нусингена, он платит мне шесть процентов; поступи так же, будешь получать процентом больше, и этот процент позволит тебе жить в свое удовольствие». И через три дня наш Годфруа зажил в свое удовольствие. Его материальное благополучие стало полным, так как доходов его хватало теперь и на излишества. Если бы можно было окинуть одним взглядом всех парижских молодых людей, – как это будет, говорят, в день Страшного суда с миллиардами поколений, копошившихся в грязи на поверхности всех планет в качестве ли национальных гвардейцев или в качестве дикарей, – и спросить их: не заключается ли счастье двадцатишестилетнего молодого человека в том, чтобы выезжать верхом, в тильбюри или кабриолете с «тигром», который не выше, чем мальчик с пальчик, таким же розовым и свежим, как Тоби-Джоби-Пэдди, а по вечерам пользоваться за двенадцать франков вполне приличной наемной каретой; появляться всегда элегантно одетым согласно законам моды, предписывающей особый наряд для восьми часов утра, полудня, четырех часов дня и для вечера; быть хорошо принятым во всех посольствах и срывать там недолговечные цветы поверхностной дружбы с представителями различных наций; обладать приятной наружностью и носить с достоинством свое имя, свой фрак и свою голову; жить на прелестных маленьких антресолях, обставленных так, как были обставлены описанные мною антресоли на набережной Малакэ; иметь возможность приглашать друзей в «Роше де Канкаль», не ощупывая предварительно свои карманы; не останавливать ни одного из своих разумных порывов словами: «А деньги?»; обновлять, по желанию, розовые кисточки на челках трех своих чистокровных лошадей и всегда иметь свежую подкладку на собственной шляпе, – то все они, и даже такие выдающиеся люди, как мы с вами, сказали бы в один голос, что это – еще неполное счастье, что это – церковь Мадлен без алтаря, что нужно любить и быть любимым, или любить, но не быть любимым, или быть любимым, но не любить, или иметь возможность любить кого угодно и как угодно. Перейдем же к счастью духовному.
Когда в январе 1823 года, прекрасно устроив свои дела, Годфруа освоился и пустил корни в различных кругах парижского общества, которые ему нравилось посещать, он ощутил необходимость найти прибежище под сенью дамского зонтика, иметь право жаловаться на жестокосердие какой-нибудь светской женщины, а не жевать хвостик розы, купленной за десять су у мадам Прево, подобно юнцам, которые пищат в коридорах Оперы, словно цыплята в клетке. Словом, он решил посвятить свои чувства, свои помыслы и стремления женщине. Женщина! Ах! Женщина! Сперва у него явилась нелепая мысль обзавестись несчастной любовью, и он увивался некоторое время вокруг своей прелестной кузины госпожи д'Эглемон, не замечая, что некий дипломат уже протанцевал с ней вальс из «Фауста». 1825 год прошел в поисках, попытках и бесплодном кокетстве. Требуемый предмет любви не находился. Пылкая страсть стала ныне большой редкостью. В то время в области нравов воздвигалось не меньше баррикад, чем на улицах. Воистину, братья мои, неприлично добирается и до нас! Так как нас упрекают в том, что мы вторгаемся в область художников-портретистов, аукционистов и модисток, я избавлю вас от описания особы, в которой Годфруа узнал свою суженую. Возраст – девятнадцать лет; рост – метр пятьдесят сантиметров; волосы – белокурые; брови – idem; глаза – голубые, лоб обыкновенный, нос – с горбинкой, рот – маленький, подбородок – короткий и слегка выдающийся вперед, лицо – овальное; особых примет не имеется. Таков паспорт любимого существа. Не будьте требовательней, чем полиция, господа мэры французских городов и общин, жандармы и прочие власти предержащие. Короче говоря, то был известный вам штамп нынешних Венер Медицейских. В первый же раз, как Годфруа явился к госпоже де Нусинген, пригласившей его на один из своих балов, которыми она без особого труда завоевала себе известность, он увидел во время кадрили существо, достойное любви, и был пленен этой фигуркой в сто пятьдесят сантиметров. Пушистые белокурые волосы ниспадали легкими каскадами, обрамляя личико, наивное и свежее, как у наяды, выставившей носик в хрустальное оконце своего ручья, чтобы полюбоваться весенними цветами. (Это наш новый стиль: фразы тянутся, как макароны, которые нам только что подавали.) Для описания ее бровей – да простит нам префектура полиции – нежному Парни потребовалось бы целых шесть стихов, и сей игривый поэт галантнейшим образом сравнил бы их с луком Купидона, не преминув отметить, что под бровями таились стрелы, хотя и без острых наконечников, ибо и сейчас еще в моде то выражение овечьей кротости, с которым госпожа де Лавальер на каминных экранах свидетельствует свою нежность перед богом, не получив возможности засвидетельствовать ее перед нотариусом. Знаете ли вы, какое действие производят белокурые волосы и голубые глаза в сочетании с томным, полным неги, но благопристойным танцем? Юная блондинка не разит вас дерзко в сердце, подобно брюнеткам, которые своим взглядом, кажется, так и говорят вам на манер испанского нищего: «Кошелек или жизнь! Пять франков или полное презрение!» Эти вызывающие и не совсем безобидные красотки могут нравиться многим мужчинам; но, по-моему, блондинка, наделенная счастливым даром казаться необычайно нежной и снисходительной и не теряющая при этом своих прав на упреки, поддразниванье, болтливость, неосновательную ревность – словом, на все то, что делает ее очаровательной женщиной, имеет больше шансов найти мужа, чем жгучая брюнетка. Рога на лоб? Себе дороже!
Изора, белокурая, как большинство эльзасок (она появилась на свет божий в Страсбурге и говорила по-немецки с легким и очень милым французским акцентом), танцевала бесподобно. Ее ножки, которых не отметил полицейский чиновник, но которые свободно могли быть занесены под рубрикой «особые приметы», отличались миниатюрностью, а по выразительности, называемой старыми учителями танцев тип-топ , могли сравниться с пленительной речью мадмуазель Марс, ибо все музы – сестры, а танцор и поэт – оба стоят ногами на земле. Ножки Изоры изъяснялись с многообещающей для сердечных дел легкостью, четкостью и проворством. «У нее тип-топ! » – было высшей похвалой в устах Марселя, единственного учителя танцев, которого с полным основанием называли «великим». Говорили: «великий Марсель» – совершенно так же, как говорили «Фридрих Великий» в царствование Фридриха!