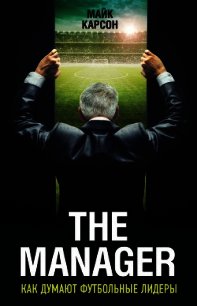Со стыда провалиться - Робертсон Робин (прочитать книгу .txt) 📗
Мне удалось продать две книги.
К тому времени я уже приобрела некоторую известность, позволившую моему издателю в Штатах организовать для меня участие в одной из программ на американском телевидении. Это было дневное шоу, которое тогда — в конце семидесятых? — представляло собой что-то вроде варьете. В таких программах обычно играла легкая музыка, после чего из-за бамбуковой занавески в студии появлялся гость с дрессированным медведем коала, икебаной или книгой.
Я ждала своего выхода за шторкой. Передо мной было другое выступление — в студию пригласили членов ассоциации пациентов, перенесших колостомию. Они делились подробностями операции и показывали, как правильно пользоваться калоприемником.
Я поняла, что обречена. Ну какая книга сравнится по увлекательности с советами по использованию калоприемника? У. К. Филдз [2] однажды поклялся никогда не делить сцену с ребенком или собакой; я же могу добавить к этому следующее: «Ни за что не выступай после рассказов о колостомии» (а также после обсуждения других, не менее жутких физиологических тем, например, способов удаления с одежды пятен от портвейна — на передаче в Австралии моему выходу предшествовала демонстрация именно этой процедуры). Проблема заключается в том, что у тебя начисто пропадает интерес к себе и своему, с позволения сказать, «произведению» — «Напомните, пожалуйста, зрителям, как вас зовут. И расскажите нам о сюжете вашей книги, буквально в двух словах», — ведь ты полностью погружаешься в себя, рисуя в воображении леденящие душу подробности… ладно, не важно чего.
Недавно я участвовала в передаче на мексиканском телевидении. К этому времени я была уже знаменита, насколько вообще могут быть знамениты писатели, хотя, пожалуй, в Мексике я все же пользовалась не такой известностью, как в других странах. Телешоу было из тех, где перед съемкой участников гримируют, и мне так густо накрасили ресницы, что они стояли торчком, будто маленькие черные полки для книг.
Ведущий оказался очень приятным мужчиной, который, как выяснилось, в студенческие годы жил всего в нескольких кварталах от моего дома в Торонто — я тогда обреталась где-то еще, переживая позор после первой раздачи автографов в Эдмонтоне. Мы непринужденно болтали, обсуждая международную обстановку и прочие темы, пока он не пригвоздил меня к месту вопросом на букву «ф»: «Вы считаете себя феминисткой?» Я тут же свечой отбила мяч через сетку («Женщины тоже люди, не так ли?»), но интервьюер нанес коварный удар. Виной всему были ресницы: из-за их частокола я прозевала атаку.
— Ощущаете ли вы свою женственность? — спросил он.
Все порядочные канадские дамы средних лет испытывают смущение, когда мексиканец-телеведущий, да еще моложе их, задает подобный вопрос. По крайней мере я смутилась изрядно.
— В моем-то возрасте? — брякнула я. Подтекст: о том же самом меня спрашивали в 1969 году, во время моего публичного позора в Эдмонтоне, и спустя тридцать четыре года я вовсе не обязана выслушивать это снова! Но чего я могла ожидать с такими ресницами?
— Конечно, а почему бы и нет? — удивился ведущий.
Я удержалась от объяснений. Я не сказала: «Черт возьми, мне стукнуло шестьдесят три, по-вашему, я все еще должна одеваться в розовые платья с оборочками?» Я не сказала: «Ощущаю ли я себя женщиной? А может, кошечкой, приятель? Рр-ррр, мяу». Я не сказала: «Это нескромный вопрос».
Похлопав ресницами, я произнесла:
— Об этом вам следует спрашивать не меня. Спросите лучше мужчин, которые встречались мне в жизни. — Намек на то, что их было великое множество. — Точно так же и я спросила бы ваших знакомых женщин, настоящий ли вы мужчина. Они открыли бы мне всю правду.
Рекламная пауза.
Через несколько дней, все еще размышляя на эту тему, я публично заявила:
— Мои любовники растолстели, облысели, а потом все умерли. — И еще я добавила: — Удачное название для рассказа.
Потом я пожалела и о первом, и о втором высказывании.
Иногда мы сами себя унижаем.
Глин Максвелл
Мучительней, чем немота животных
Безмолвный взгляд зверя трогает душу сильнее человеческих слов, но людское неумение говорить еще мучительней, чем немота животных.
<b>Вест-Мидлендз, 1990.</b>Сотрудница библиотеки: — Прекрасно. Итак, есть ли у вас вопросы к нашим поэтам? Да?.. Кто-то желает спросить… о чем-нибудь… связанном с… гм… поэзией… со стихами, которые сегодня здесь прозвучали?..
Школьница: — Мне хотелось бы задать вопрос Глину Максвеллу.
Поэт: — Да. Конечно. Замечательно.
Школьница: — Насчет последней поэмы.
Поэт: — «Седьмой день»?
Школьница: — Ага.
Поэт: — Что именно вас интересует?
Школьница: — Ну, в общем… о чем она?
Поэт: — Моя поэма?
Школьница: — Ну да. Про что в ней говорится?
Поэт: — Хм-м… Думаю, она о том… в ней говорится… погодите минутку. Повествователь, иными словами, рассказчик — может, это я, а может, и не я — замечает… хорошо, допустим, речь идет обо мне, хотя совсем не обязательно, что это так… Повествователь. Кто-то, кто просыпается воскресным утром, по всей видимости, бурно повеселившись накануне вечером, если вы понимаете, о чем я… ну конечно, понимаете! Итак, продолжаем. Я имею в виду, он страдает похмельем — это во второй строфе… есть какие-то лекарства от похмелья или нет, да нет, ни черта не помогает, по крайней мере мне. Разве что сон. Вам ведь знакомо похмелье, правда? О да, да, разумеется, ха-ха, может, как раз сейчас вы и мучаетесь им! Хотя нет, что я такое говорю. Конечно, конечно, нет, вам… вам же всего по тринадцать лет. Вот, значит, переходим к четвертой строфе. Не подумайте, у меня самого вовсе нет похмелья. В четвертой строфе ему слегка не по себе, он, если можно так выразиться, ощущает свою уязвимость, он страдает и чувствует себя так, будто его кожа намного тоньше, чем, гм, у всех остальных, он переживает, что скажут люди. И это немаловажный показатель его состояния. И вот он бродит по дому в общем-то без дела, осознавая свою экзистенцию — кхгм… осознавая себя, так сказать, живым существом, представляя себя во вселенной… это в полном, значит, одиночестве, и у него еще проблема с кожей, о которой я говорил. И очевидно, с дыханием. Оно такое ровное, знаете, такое размеренное, как… не знаю… вот послушайте. Ничего не слышу… И он… что? Это я просто проверял. Он не спит. Да, в довершение ко всему он лежит или, скажем, сидит, и ему не спится, он смотрит в окно и в середине восьмой строфы видит… Восьмая строфа… строфа… по-итальянски «станца», также как комната… Он сидит в комнате, словно в… О ГОСПОДИ…
Простите, глотну водички… О, «Вольвик», отличная вода… Итак, он смотрит в окно, наружу, на улицу, на свой город, который, знаете ли, ничем не отличается от вашего, но здесь представлен мой город в противоположность… в противоположность. И вот он сидит со своим стаканом воды и принимает… ну это… таблетку снотворного и затем выпадает из… из… реальности… и тут поэма заканчивается, да, как раз в этом месте, потому что после этого остается только… гм… ну вы сами знаете что… такая… такая… такая… белая пустота.
Школьница: — Так бы сразу и написали.
Дженис Гэллоуэй
…И не смердит столь скверно
Ничто не терзает так тяжко и не смердит так скверно, как стыд.
Моя бабушка терпеть не могла книги и писателей. Совершенно не выносила. У нее, шахтерской вдовы, был стеклянный глаз (однажды в камине разорвался уголь), глиняная трубка (как правило, незажженная) и привычка высказывать вслух вещи, которые вы предпочли бы не слышать. «Ему бы лопату в руки», — едко отзывалась она о рассеянных дикторах телевизионных новостей; «Это от вас несет?» — острота, адресованная сидящим на крыльце мормонам; «Я тебя насквозь вижу», — приговаривала бабуля, вынимая из глаза вышеупомянутый стеклянный протез (самое то, чтобы маленькие дети побелели от ужаса) — в общем, вы понимаете. Через много лет после того, как бабушка погибла при пожаре дома, моя мама, уже сама тяжело больная, сделала что-то вроде предсмертного признания и рассказала, как сильно любила свою мать и как при этом стеснялась ее. Даже не просто стеснялась, а чувствовала себя так, будто из-за бабушки на нее показывают пальцем. Похоже, мне предстояло узнать худшее.