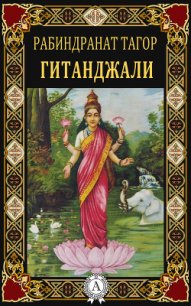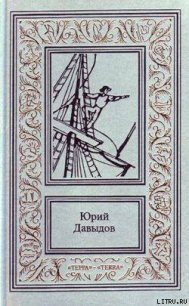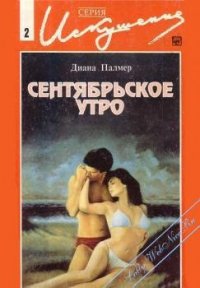Рассечение Стоуна - Соколов Сергей И. (мир книг .txt) 📗
– Этьен очень расстроен, – сокрушался Гхош. – Не по поводу рака, а по поводу колостомы. Не может примириться с мыслью, что кал будет выходить через дырку в животе.
Этьен лежал, накрывшись с головой. Когда Гхош осмотрел его и заключил, что колостома выглядит прекрасно, на глазах у больного показались слезы. На торчащую из живота кишку Этьен старался не смотреть.
– Кто теперь пойдет за меня замуж? – только и сказал он.
Гхош оказался неожиданно строг.
– Этьен, часть тела, необходимую для женитьбы, я тебе не удалял. Ты найдешь женщину, которая тебя полюбит, и все ей объяснишь. Если любовь настоящая, вы оба будете счастливы. Ты жив, и это главное. – Суровое лицо Гхоша несколько смягчилось. – Этьен, представь себе, что все люди родились с анусом на животе и кто-то предлагает тебе операцию: переставить выходное отверстие назад, запрятать его меж ягодиц, где его можно увидеть только в зеркало и куда с трудом можно дотянуться, чтобы вытереть, помыть…
Прошло несколько секунд, прежде чем Этьен улыбнулся, вытер глаза и отважился посмотреть на колостому. Это был маленький шаг в верном направлении.
Гхошу надо было осмотреть еще одного пациента, и он отправил меня домой, чтобы я не опоздал на ужин.
Дождь лил как из ведра, а у меня не было с собой зонтика. Я прошел по крытым дорожкам от операционной к приемному покою, от приемного покоя к мужскому отделению, потом совершил короткую перебежку по лужам к сестринскому общежитию. В это женское царство я почти никогда не заходил. Вроде бы здесь никого. Если пройти по балкону и спуститься по лестнице с другой стороны… нет, намокнуть-то я все равно намокну, но бежать под дождем придется на пятьдесят ярдов меньше. Только бы жена Адама, блюстительница нравственности, меня не заметила, прогонит ведь…
На втором этаже двери комнат медсестер, выходящие на общую веранду, были нараспашку. Наверное, все ушли в столовую, а то бы сестры выстроились вдоль перил, поглощенные своей прической, маникюром, рукодельем или праздными разговорами.
Из угловой комнаты, той самой, где некогда проживала мама, донеслась музыка. Я пару раз бывал тут, но, так же как на могиле, не чувствовал здесь ее присутствия. Необычность музыки, ее заводной ритм привлекли меня. Гитары и барабаны повторяли рефрен сначала в одном регистре, потом в другом. С недавнего времени эфиопская музыка обрела западное звучание, трубы, малые барабаны и гитарные риффы заменили негромкие струны крара [81] и хлопание в ладоши. Но это была не эфиопская музыка, и не только из-за английских слов (пусть даже такой английский я не до конца понимал). Она была совсем другая, словно новая краска у радуги.
Дверь с шумом распахнулась.
Она стояла посреди комнаты босая, спиной ко мне. Белая рубашка, открывающая плечи, доходила до колен. Голова у нее качалась из стороны в сторону, длинные черные волосы, распрямленные какими-то хитростями, казалось, были к голове приварены. Бедра следовали за басом, а поднятая вверх правая рука вторила мелодии. Левую руку она прижала к животу, локоть торчал, будто ручка у чашки. Музыка пронизывала ее тело, смазывала суставы, впитывалась в кости и плоть, порождая плавные, округлые и чувственные движения.
Она повернулась. Глаза у нее были закрыты, голова запрокинута, нижняя губа кривилась, словно, некогда рассеченная, неправильно срослась.
Мне была знакома эта губа, это лицо в легких оспинах, зрительно расширяющих скулы. А вот тело я не узнавал. Она была вечной стажеркой, пока матушка не сжалилась и не присвоила ей новую должность – штатная медсестра-стажер, – что ее совершенно преобразило. Из вечной ученицы-второгодницы она превратилась в наставника молодых сестричек-стажерок. На занятиях, пользуясь тем, что знала учебники наизусть, она вколачивала в головы медсестер факты и вместе с тем показывала, что все эти премудрости можно зазубрить. Вон как она сама шпарит – даже книгу не откроет.
Обычно она собирала волосы назад и завязывала в тугой пучок. Увенчанная медсестринским чепцом с крылышками, ее голова живейшим образом напоминала рожок с мороженым.
На мой взгляд, если она чем и выделялась, так это только прической. Среди знакомых по школе девочек часто попадались, так сказать, ни то ни се. Не красавица и не уродина, а кем сама себя считает, за такую и сойдет. Хайди Энквист была ох какая яркая, но только не в своих собственных глазах, ей недоставало загадочности и шарма Риты Вартанян, которая, несмотря на свой глубокий прикус и длинный нос, так себя поставила, что Хайди ей завидовала.
Стажерка была из того же теста, что и Хайди. Думаю, именно поэтому она добровольно заключила себя в туго накрахмаленную форменную одежду и довеском к ней бросила улыбаться. Она видела себя только медсестрой; вне профессии она была никто. Я всегда чувствовал, что среди людей ей неуютно. Да тут еще ее застенчивость.
Но сейчас из-под обличья медсестры проступила женщина. Форменное платье скрывало тело, полное изгибов, вроде фигур, которые любил рисовать Шива, и это тело так двигалось, что гаремная танцовщица обзавидовалась бы.
Глаза у нее были закрыты. Увидит меня – испугается, смутится, а то и разозлится, пожалуй. Я был готов улизнуть, но тут она сделала шаг вперед, взяла меня за руку, как будто какая-то фраза в песне сказала ей, что я здесь, втянула в комнату и захлопнула дверь. Музыка сразу зазвучала громче.
Она закрутила меня, затормошила, заставила делать маленькие шажки в такт музыке. Сперва я смутился. Надо засмеяться и сказать что-нибудь умное, ведь я уже взрослый. Но, посмотрев на ее лицо, ощутив всем телом ритм, я почувствовал, что прервать сейчас танец все равно что начать громко болтать в церкви. Я принялся подражать ей, плечи – в одну сторону, бедра – в другую, руки выписывают кренделя в воздухе. Главное – ни о чем не думать. Мое тело распалось на части, и каждая часть шла за своим музыкальным инструментом. Наши па неизбежно должны были совпасть.
И, когда они совпали, она притянула меня к себе, я прижался щекой к ее шее, ее груди коснулись моего тела, нас разделяла только тончайшая материя. Раньше я не танцевал и уж точно никогда не танцевал так. Я вдохнул запах ее духов и пота. По телу у нее прошла судорога, и у меня перехватило дыхание. Она завела мою руку себе за спину, я положил ладонь ей на крестец, и наши тела будто слились воедино. Наш танец ни на секунду не прерывался, она вела меня.
Я предугадывал каждое ее движение, сам не понимаю как, не понимаю, откуда ко мне пришло это знание. Мы вертелись, синхронно бросались то туда, то сюда, действовали заедино. Я вспомнил Генет, и ее образ вдохновил меня. Теперь вел я, а она следовала за мной. Наши бедра соприкасались, нежная плоть терлась о плоть. Кровь прихлынула к лицу, к животу, к паху. Окружающий мир исчез. Остались только наши тела, погруженные в замысловатый диалог.
Музыка не кончалась. Пусть играет вечно, успел подумать я, и тут все оборвалось. Американский диктор, чей тягучий выговор оказался совсем не похож на четкую, официальную интонацию Би-би-си, промычал: «Ну, ну. Надо же. Угу, уту», словно видел, чем мы занимаемся. «Вам доводилось слушать что-нибудь столь же спокойное? «Рок Африки’,’ радиослужба вооруженных сил, Асмара, передает четырнадцать лучших хитов Восточной Африки».
Я и не подозревал, что есть такая станция, хотя знал об американском широком военном присутствии, о «посте подслушивания» под Асмарой, в Кагне. Может, у них есть такое, что и нам не повредит послушать?
Мы по-прежнему прижимались друг к другу, не подпуская к себе окружающий мир. Она заглянула мне в глаза. Я не знал, заплачет она или засмеется, для меня было ясно одно: я буду плакать и смеяться вместе с ней, а если попросит, встану на четвереньки и изображу Кучулу
– Ты такая красивая, – пробормотал я неожиданно для самого себя.
Она прерывисто вздохнула. Похоже, мои слова всколыхнули ее. Я сказал что-то не то? Губы у нее тряслись, глаза горели. Да нет, мои слова привели ее в восторг.
81
Эфиопская лира, на которой играют, ритмично бренча по струнам плектром, а свободной рукой заглушая звучание ненужных струн.