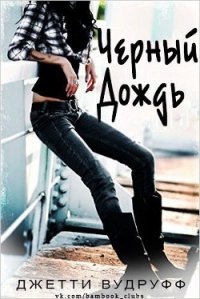Роман с кокаином - Агеев Марк (книги полные версии бесплатно без регистрации .TXT) 📗
По мере того как он говорил, глаза стоявших перед ним гимназистов становились какими-то тупыми, непропускающими: можно было бы подумать, что во всех этих глазах отсутствует решительно всякое выражение, если бы не знать, что именно это отсутствие выражения должно выражать то, что они-то не ругались, и к ним все эти укоряющие слова нисколько не относятся. Но одновременно с тем, как глаза и лица всей группы становились все более безразличноскучающими, — глазки Буркевица, который теперь только тихо подошел, делались все более живыми и озорными, губы его тонко разлезались в злую улыбку, — и слова священника, словно иголки, бросаемые в полукруг этих каменных глаз и лиц, уже независимо от воли бросающей их руки сплетались и клеились к намагниченной точке буркевицевской улыбки. Выходило, будто ругался Буркевиц, и последние слова о Пушкине и Лермонтове относились уже всецело к нему.
— Вы, батюшка, — возразил Буркевиц тихим и страшным голосом, — знакомы, видимо, с господами Пушкиным и Лермонтовым только по казенным хрестоматиям и считаете более близкое знакомство с ними, поскольку оно опровергает ваше мнение, излишним.
— Да, — твердо возразил батюшка, — для вас я считаю дальнейшее знакомство с этими писателями излишним, как считаю необходимым, прежде чем подарить ребенку розу, срезать с нее шипы. Вот как. А теперь позвольте еще раз всем вам напомнить, что ругательские слова, которые я здесь слышал, недопустимы и недостойны христианина.
Последние слова он сказал резко, старой своей, чуть дрожащей рукой поправляя крест на лиловой рясе. Почему же он продолжает стоять, почему не уходит, — подумал я, но посмотрел на Буркевица и понял. Лицо Буркевица как-то вдруг похудело, стало сырым и дергалось, глаза с пронзительной ненавистью смотрели прямо в лицо священнику. — Сейчас он его ударит, — подумал я. Буркевиц судорожно занес руки назад, словно поймал кого позади себя, сделал шаг вперед и с неожиданной, предприимчивой звонкостью заговорил.
— Ругательские слова, как вы изволили заметить, недостойны христианина. Что ж, против этого никто не возражает. Но уж если вы, служитель Бога, взялись наставлять нас на путь истинный, то не взыщите, коли я спрошу вас — где, в чем, когда и как проявили вы сами-то эти неведомые нам достоинства христианина, непременность выполнения которых вы решили нам здесь внушать. Где были вы, к слову сказать, с вашими достоинствами христианина, когда десять месяцев тому назад кровожадные толпы с цветными тряпками перли по улицам Москвы, толпы так называемых людей, по кровожадности и тупости своей недостойные сравнения со стадом диких скотов, — где были вы, служитель Бога, в этот ужасный для нас день? Почему вы, поборник христианства., не собрали нас, детей, как вы нас называете, — здесь, в этих стенах, в этом доме, в котором вы взяли на себя смелость учить нас заповедям Христа, — где были вы, спрашиваю я вас, и почему молчали тогда, в день объявления войны, в день обнародования закона о поощрении братоубийства, — и вдруг заговорили теперь, подслушав сказанное здесь ругательство? Уж не потому ли, что братоубийство не столько противоречит, не столько идет вразрез с пониманием вами христианского достоинства, сколько сказанное здесь ругательство? Я признаю: ругаться так, как ругаются здесь, — непозволительно христианину, и вы правы, правы, что протестовали против услышанного ругательства. Но где же были вы, служитель Христа, где были вы все эти десять месяцев, когда каждодневно и каждоминутно у детей насильно отрывали и отрывают их отцов, у матерей их мальчиков, — чтобы отняв, насильственно же посылать в огонь, на убийство, на смерть, — где были вы все это время, и почему в ваших проповедях не протестовали против всех этих преступлений хотя бы так, как это сделали здесь по случаю услышанного ругательства? Почему? Почему? Уж не потому ли, что все эти ужасы тоже нисколько не противоречат христианскому достоинству? Почему вы, достойный страж христианства, нашли в себе наглость улыбаться и поощрительно кивать нам вашей священной головой, когда однажды, проходя по гимназическому двору, вы увидели, как нас, ваших детей, учат теперь ежедневно ружейным приемам, как нас учат искусству братоубийств? Чему же вы так поощрительно улыбались, глядя на нас, и почему молчали? Не потому ли уж, что учить детей ружейным приемам тоже не претит вашему христианскому достоинству? И как осмелились вы, прикрываясь именем Христа, нарочито презреть заповеди Того, Чьим светлым именем вы желаете оправдать вашу жалкую жизнь, как посмели вы молиться, слышите ли, молиться о том, чтобы брат победил бы брата, чтобы брат покорил бы брата, чтобы брат убил бы врага? О каком враге вы теперь говорите? Уж не о том ли, о котором еще год тому назад вы сладким голоском вещали, что его должно и прощать и любить? Или, быть может, такая молитва о покорении, о насилии, об убийстве и уничтожении одним человеком другого — тоже не противоречит вашему пониманию христианского достоинства? Опомнитесь же вы, жалкий церковный чиновник, отупевший и разжиревший на народных харчах; опомнитесь и не оправдывайтесь тем, что ваши единоверческие сослуживцы, рискуя жизнью там, на полях ужаса, причащают умирающих и умиротворяют истекающих кровью. Не оправдывайтесь этим, ибо, как вам, так и им слишком хорошо ведомо, что ваша задача, что ваш христианский долг умиротворять не больных, уже истекающих кровью, — а здоровых, только еще идущих убивать. Так не уподобляйтесь же врачу, который сифилистические язвы лечит гольдкремом, и не пытайтесь оправдываться еще тем, что вы потворствуете этому страшному делу — из преданности монарху или правительству, из любви к родине или к так называемому русскому оружию. Не оправдывайтесь, ибо знаете вы, что ваш монарх — Христос, ваша родина — совесть, ваше правительство — Евангелие, ваше оружие — любовь. Так опомнитесь же и действуйте. Действуйте, потому что дорога каждая минута, потому что каждую минуту, каждую секунду люди стреляют, люди убивают, люди падают. Опомнитесь и действуйте, ибо люди и матери, и отцы, и дети, и братья, и все, и все — ждут от вас, именно от вас, чтобы вы — служители Христа, бесстрашно жертвуя вашими жизнями, вмешались бы в этот позор, и, встав между безумцами, крикнули бы громко, — громко потому, что вас много, вас так много, что вы можете крикнуть на весь мир: — люди, остановитесь, — люди, перестаньте убивать! Вот, вот, вот в чем ваш долг.
Глядя на то, как Буркевиц, странно взмахнув рукой, с завалившейся головой, страшно трясясь и шатаясь, прошел мимо нас и вышел за дверь на лестницу, — у меня была только одна мысль: — пропал, эх, пропал ты, бедный Васька.
Лишь через мгновение, оглянувшись в противоположном направлении, я увидел, как красивым изгибом огладив косяк, исчезла в двери лиловая ряса.
И в ту же самую секунду, когда все бросились друг к другу, взволнованно говоря и махая руками, — где-то внизу начался глухой гул, грозно усиливаясь, словно в дом ворвалась морская вода, шел он кверху, — от него дрожали окна и стены и пол, и наконец и в нашем коридоре гул этот разорвался оглушающим грохотом сквозь распахнувшиеся двери шестого и седьмого классов. Урок кончился.
9
Чтобы не сообщать подробностей этого чрезвычайного происшествия двум младшим классам, заполнившим на время перемены коридор, — все мы зашли в класс.
— Это же идиот, ведь это же и форменный идиот, — говорил Штейн, кладя на плечо Яга свою белую руку, которая на черном сукне походила на расплескавшееся пятно сливок.
— Нет, Штейн, ты брат, не мешайся, — отстранился от него Яг. — Ты, можно сказать, европеец, а тут, брат, азиатское дело. Ты пойми: толкование талмуда не нарушено, а потому тебе волноваться не гоже.
И выждав, когда Штейн оскорбленно отошел к своей парте, Яг вполголоса обратился к возбужденной группе, скопившейся у окна.
— Ведь этому дивиться надо, — сказал Яг, — до чего наши еврейчики духовенство обожают: попа, ни Боже мой, не тронь, — все жиды взбунтуются.
— Такая сафпадэние, — закачал головой Такаджиев, но никто не засмеялся. В группе шел горячий обмен мнений. Однако никому не давали высказаться, взволнованно перебивая, оспаривая, отвергая. Одни говорили, что Буркевиц прав, что война никому не нужна, что она губительна и прибыльна только генералам и интендантам. Другие говорили, что война дело славное, что не будь войн — не было бы и России, что нечего слюнтяйничать, а надо биться. Третьи говорили, что хотя война дело ужасное, однако, в настоящий момент вынужденное, и что если хирург во время операции и разочаровался в медицине, то это не дает ему еще права не докончить операции, уйти и бросить больного. Четвертые говорили, что хотя война нам и навязана, и что звание великого государства не допускает заговорить о мире, однако мысль Буркевица правильная, и что духовенство всего мира, исходя из единых принципов христианства, обязано было бы, даже не считаясь с опасностью преследования его военным законом, протестовать и бороться против дальнейшего ведения войны. Против последнего мнения возражал Яг.