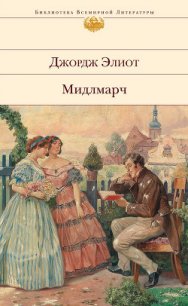Сайлес Марнер [= Золото и Любовь., Золотые кудри., Сила Марнер, ткач из Равело] - Горфинкель Даниил Михайлович
— Только ты один можешь, — разразился Годфри ожесточенной тирадой, — с таким хладнокровием требовать, чтобы я продал Уайлдфайра! Ведь это последнее, что я могу назвать своей собственностью, и лучшая лошадь, которую мне довелось видеть в жизни. Будь в тебе хоть капля гордости, ты постыдился бы того, что наши конюшни опустеют и все будут издеваться над нами. Но ты, я знаю, готов продать и самого себя, хотя бы ради удовольствия посмеяться над покупателем, который пошел на такую невыгодную сделку.
— Да, да, — миролюбиво отозвался Данстен, — я вижу, ты отдаешь мне должное. Ты знаешь, что я большой мастер соблазнять людей на покупки. Поэтому я советовал бы тебе поручить продажу Уайлдфайра мне. Я завтра с удовольствием отправлюсь на нем на охоту вместо тебя. Конечно, я не буду так хорош в седле, как ты, но ведь людям предстоит покупать лошадь, а не всадника.
— Да… Но доверить лошадь тебе?
— Как знаешь, — с самым равнодушным видом ответил Данстен, постукивая хлыстом по дивану. — Ведь отдавать отцу деньги за Фаулера придется тебе, меня это не касается. Это ты получил с него деньги, когда ездил в Бремкоут, и ты сказал сквайру, что он денег не уплатил. Я здесь ни при чем: ты был так любезен, что ссудил их мне, вот и все. Не хочешь возвращать деньги — не возвращай, мне-то что! Я хотел лишь оказать тебе услугу, взяв на себя продажу лошади, раз тебе самому завтра неудобно ехать так далеко.
Несколько мгновений Годфри молчал. Ему хотелось броситься на Данстена, вырвать у него из рук хлыст и избить до полусмерти. Никакой физический страх не мог бы его удержать, но им владел страх иного рода, питаемый чувствами более сильными, чем его негодование. Когда он снова заговорил, его голос звучал более примирительно.
— Так ты не выкинешь никакой штуки с лошадью? Честно продашь ее и принесешь деньги мне? Помни, если ты обманешь меня, все полетит к черту. Больше мне терять будет нечего, и если крыша обрушится над моей головой, тебе будет от этого мало радости, потому что она разнесет и твой череп.
— Да, да, — сказал Данстен, вставая, — ладно! Я знал, что ты одумаешься. Уж я-то заставлю старика Брайса раскошелиться. Будь я не я, если не привезу тебе все сто двадцать фунтов.
— А вдруг завтра будет ливень, как вчера, тогда тебе не придется ехать, — сказал Годфри, сам не зная, хочет ли он, чтобы возникло подобное препятствие.
— Не будет, — ответил Данстен. — Мне всегда везет с погодой. Вот если бы поехал ты сам, наверняка пошел бы дождь. К тебе козыри никогда не идут, как ко мне. Каждому свое: тебе — красота, мне — удача. Держи меня при себе, как неразменную монету, без меня ты пропадешь.
— Заткнись и проваливай ко всем чертям! — вспылил Годфри. — Постарайся завтра быть трезвым, а то еще в дороге полетишь вверх тормашками, и Уайлдфайр может пострадать.
— Пусть не тревожится обо мне твое нежное сердце, — ответил Данстен, отворяя дверь. — Ты еще ни разу не видел меня пьяным, когда предстояло какое-нибудь дельце, это испортило бы все удовольствие. Кроме того, если я упаду, будь уверен, я упаду на ноги.
С этими словами Данстен вышел, хлопнув дверью и оставив Годфри наедине с горькими мыслями о безотрадной жизни. Эти мысли преследовали его изо дня в день, за исключением сладких минут возбуждения на охоте, за вином, за игрой в карты или редких и не очень обнадеживающих встреч с мисс Нэнси Лемметер. Жгучие страдания, возникающие из чувств, свойственных людям более высокого развития, вызывают, пожалуй, меньше жалости, чем то унылое существование, лишенное тихих удовольствий и утешений, которое обрекает более примитивные умы без конца созерцать свои печали и горести. Жизнь наших сельских предков, по нашим представлениям людей весьма прозаических, — единственной заботой которых было объезжать свои земли, понемногу тучнея в равнодушном довольстве, чьи чувства были притуплены однообразием и скукой — несла в себе все же какой-то пафос. Этих людей тоже постигали бедствия, ошибки молодости тоже вели к тяжким для них последствиям. Случалось, любовь милой девушки, воплощение непорочности, порядка и спокойствия, открывала им глаза на возможность жизни, когда дни и без разгула уже не казались бы такими длинными. Но девушка исчезала, а вместе с ней исчезало и видение лучшей жизни, и что же тогда оставалось им, — особенно, если они становились слишком грузными для скачки за лисицей или долгих прогулок с ружьем, — как не пить и веселиться или пить и сердиться? От них уже не ждали ничего нового, и поэтому они могли, нимало не смущаясь, с увлечением рассказывать о том, о чем уже не раз рассказывали. Конечно, многих из этих людей с багровыми лицами и тупым взглядом даже разгул не мог довести до жестокости, в силу их природной доброты. Этим людям, до появления на их щеках морщин, были доступны чувства тяжкого горя или раскаяния, они понимали ненадежность того, на что опирались, и легко опутывали себя узами, от которые ничто не могло их освободить. Но при этих печальных обстоятельствах, свойственных многим, их разум никогда не выходил за пределы все тех же мыслей о своей горькой участи.
Таково, по крайней мере, было состояние Годфри Кесса на двадцать шестом году его жизни. Угрызения совести, поддержанные тем неуловимым влиянием, которое всякие личные отношения оказывают на слабую и податливую натуру, побудили его вступить в тайный брак, ставший несчастьем его жизни. Годфри с горечью вспоминал об этой позорной истории низменной страсти, ошибок и пробуждения к действительности. Нам незачем извлекать ее из печальных тайников памяти Годфри. Он давно знал, что заблуждением своим частично обязан западне, расставленной для него Данстеном, который видел в недостойной женитьбе брата средство удовлетворения своей ревнивой ненависти и алчности. Но если бы Годфри мог считать себя просто жертвой, железные удила, которые судьба вложила ему в зубы, раздражали бы его гораздо меньше. Если бы проклятия, которые он бормотал наедине с собой, были адресованы только Данстену с его дьявольской хитростью, он, возможно, меньше боялся бы последствий своего признания, но у него было что проклинать кроме низости брата. Он проклинал собственное гибельное безрассудство, которое теперь казалось ему столь же диким и непонятным, какими нам всегда кажутся наши безумства и пороки, когда их власть над нами давным-давно прошла. Целых четыре года он мечтал о Нэнси Лемметер и терпеливо добивался ее любви, боготворя в ней девушку, которая заставляла его думать о будущем с радостью. Она станет его женой, а с нею и дом его станет ему дорог, не то что дом отца. Когда она всегда будет рядом, ему легко будет отбросить глупые привычки, которые не доставляли ему удовольствия, а были только лихорадочными попытками заполнить жизненную пустоту. Годфри по натуре был домосед, хотя и вырос в семье, где очаг не был согрет улыбками и где не было хозяйки, заботливо соблюдающей заведенный порядок. Добродушный нрав заставлял его покорно следовать семейным обычаям, но в нем жила потребность в постоянной и нежной привязанности, жажда ласкового влияния, повинуясь которому ему легче было бы идти путем добра, к чему он так легко склонялся. При этой неудовлетворенности аккуратность, чистота и непринужденная простота в доме Лемметеров, осененном улыбкой Нэнси, делали для него этот дом похожим на ясное прохладное утро, когда соблазны умолкают и ухо охотно внимает гласу доброго ангела, призывающего к труду, разуму и спокойствию. Но одних только надежд было недостаточно, чтобы спасти его от того пути, который навеки закрывал для него доступ в этот рай. Вместо того чтобы крепко держаться за шелковую веревку, при помощи которой Нэнси вытащила бы его целым и невредимым на зеленый берег, где нога ступала бы твердо, он все больше и больше увязал в грязи и тине, где не стоило уже и бороться. Он сам сковал себе кандалы, которые убивали все его благие порывы и служили предметом непреходящего отчаяния.
Однако, каким ужасным ни казалось ему настоящее, Годфри еще больше боялся той минуты, когда откроется его страшная тайна, и поэтому мечтал лишь о том, чтобы отдалить этот роковой день, когда ему придется испытать последствия отцовского гнева за нанесенный семейной гордости удар. Тогда, по всей вероятности, он вынужден будет отказаться от наследственного почетного положения и комфорта, которые, как-никак, составляли смысл его существования, и, уходя, унести с собой уверенность, что навсегда потерял уважение Нэнси Лемметер и возможность видеть ее. Чем позднее наступит этот день, тем больше надежды освободиться хотя бы от самых ужасных последствий, которые он на себя навлек, тем больше возможностей хотя бы урывками видеться с Нэнси и убеждаться, что он ей все еще не совсем безразличен. К этой радости он стремился после того, как целыми неделями отказывал себе в ней и избегал Нэнси, недоступной далекой звезды, которая притягивала его и заставляла еще мучительнее ощущать тяжесть своих цепей. Вот и сейчас им овладело такое сильное желание увидеть Нэнси, что даже не будь у него особой причины отказаться от завтрашней охоты, все равно это желание заставило бы его скорее доверить Уайлдфайра Данстену, чем отказаться от встречи с девушкой. Особая же причина заключалась в том, что в Батерли, городке, близ которого назначен был сбор охотников, жила та несчастная, чей образ становился для него с каждым днем все более ненавистным, и ему казалось, что там он обязательно столкнется с ней. Ярмо, которое человек сам на себя надевает своими прегрешениями, порождает ненависть в самых добрых сердцах, и, когда-то мягкий, привязчивый, Годфри Кесс быстро ожесточился. У него часто возникали недобрые мысли, — они приходили, исчезали и вновь появлялись, словно демоны, нашедшие в его душе удобный приют.