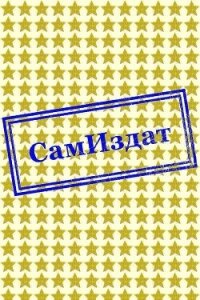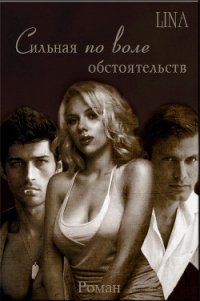Третья истина - "Лина ТриЭС" (полная версия книги TXT, FB2) 📗
– Да... он мне очень родной... Но вы как-то странно о нем говорите... «Мода», «Идол», «Шик». Он совсем другой, что вы! – Саша вообще усомнилась бы, о Виконте ли говорит Илларион Ипполитович, но знакомые метки: «фехтование», «живопись», «верховая езда» не оставляли сомнений.
– Возможно. Я ведь его и не видел никогда. Но я не думал, что у него есть семья. Такие экстраординарные личности всегда представляются лишенными обыденных уз.
– Нет… нет... вы ничего не знаете! Я не могу, чтоб кто-то считал его таким… Идолом для каких-то спесивых снобов. Модной картинкой... Все, что я знаю, все, что понимаю – от него… Нет, это я неправильно говорю. Потому что слабо... А! Вот: «он создал нас, он воспитал наш пламень». Это точно. Это верно. Если бы не он, я знаете, какая была бы? Угрюмая, одинокая... озлобленная... или, может, забитая. Я должна была такой стать. Не рассказать, какая у меня была семья, совсем чужая мне… и я им чужая…. Я их и стеснялась, и боялась, и ненавидела даже. А он...один, все это преодолел во мне... сумел... Поль... он необыкновенно глубокий человек... как океан. Представляете? И умный, талантливый такой, что даже пытаться понять, откуда берется то, что он делает, или говорит невозможно... Его просто надо слушать, наблюдать – и это уже счастье!.. Он скульптор, на стольких языках говорит, причем великолепно… в стольких странах побывал... И от каждой взял самое лучшее... Он так поет… прекраснее итальянцев... он веселый, остроумный… как француз. И, знаете, не остряк, вот как бывают записные... Он просто скажет… таким тоном, так точно, так обыграет, что выходит самая чудесная шутка... То, что он знает – это просто необъятно. Хвалите за литературу? Меня? А это та часть, та мизерная часть его, которую он мне успел передать. А как он стихи читает! Если б слышали! Как никто в мире! Как будто говорить стихами – самое естественное… Рядом с ним было надежно, легко, нечего бояться, все плохое улетучивалось сразу. Просто от его присутствия. Это особый мир – вокруг него. А если еще поговорить – все делалось понятно – и в себе, и в окружающем... Опять неправильно получается! Может показаться, он поучал, наставлял... Нет, это я ему все рассказывала, сейчас понимаю, сколько глупостей наговорила за все детство… Я выкладывалась, а он… может быть, всего несколько слов скажет, но таких!
Она говорила уже не Иллариону Ипполитовичу, а в пространство. Слезы беспрепятственно скатывались по разгоревшимся щекам, руки нервно поправляли падающие волосы.
–Не надо так волноваться, что вы, голубушка! – испуганным голосом произнес Илларион Ипполитович, сделал движение погладить ее по голове, но, видно, не решился. Рука так и повисла в воздухе.
–Просто ужасаюсь, насколько я не могу про него объяснить... Когда он рассказывал… это волшебство было просто, а в чем – я даже не понимаю, хотя помню все его слова... Он со всеми разный был. А самый настоящий – со мной. И вот как это могло получаться? Чуткий, добрый… и при этом… недоступный. Но, вы не думайте, что всегда. Иногда – он удивительно близкий... Вы сказали – аристократический стиль! Это Его стиль был, так никто не мог. И научить нельзя! Он на лошадь не садился, он взлетал!.. Когда я болела, – а я очень болела, – он, вот такой необыкновенный, талантливый, яркий, не задумываясь... тратил себя, делал все... чтоб меня вытащить. Он невозможное сделал... Я бы умерла, если б не он... Это я точно знаю... Точно...Он так о Петрограде мечтал.... мы так стремились сюда! А я... сейчас именно в Петрограде... я без него... не знаю... просто, как заводная кукла. Я говорю со всеми, могу уже, но как-то с поверхности. А по-другому – не получается. Ни с кем. Это только с ним можно было. Он так слушал... у него такой взгляд... Даже если какая-нибудь чепуха, ему неинтересная... он, как будто укоряет глазами... зачем это такое скучное… А смелый… знаете, какой он был смелый? Даже представить невозможно, что он чего-то испугался! Он думал всегда о людях только хорошее, всегда... всем... доверял... зачем-то… Вы про него: «Оригинал»! Не оригинал – единственный. Других таких не бывает…
Саша уткнулась лицом в ладони. Она плакала навзрыд, но это были не мучительные слезы первых страшных дней. Ей было легче от того, что она решилась рассказать о Виконте, нашла силы произнести вслух то, что непосильным грузом давило душу, и тем самым хоть чуточку ослабила его тяжесть.
Илларион Ипполитович сел рядом. Саша почувствовала осторожное прикосновение к плечу:
– Не буду вам, голубушка, говорить слов утешения. Скажу одно – это действительно счастье, что в вашей жизни был такой человек, не каждому на долю это выпадает, – и то, что вы сумели понять его и оценить. Горе пройдет. А след в вашей жизни останется навсегда. Вы, благодаря этому человеку, выросли чуткой. Я не забуду, как вы помогли мне тогда. И теперь я понимаю, почему именно Вы это сделали.
– Но вы же теперь не думаете... «мода», «кумир»… правда? Это оскорбление для него.
Саша отняла руки от лица и посмотрела в растроганное лицо учителя. Илларион Ипполитович протирал пенсне. Ей понравилось, что он, не сказал того, что она опасалась: «вы его любите и поэтому видите не таким, как он есть», не проявлял любопытства. Главное, не спрашивал, что с ним случилось сейчас.
Она боялась, что теперь, напомнив себе и растравив себя, вообще не сможет жить, но, странное дело, этого не произошло. Вечерним разговором и ночными размышлениями после него, когда расстроенный своей беспомощностью Илларион Ипполитович ушел, она определила место Виконта в себе, а тогда и окружающее тоже вновь получило доступ в ее душу.
ГЛАВА 5. PERPETUUM MOBILE
Света опять не было. Жалкие керосиновые лампы коптили и выглядели абсолютно сиротливо в огромном холодном зале. Вечера пропадали: ни учиться, ни читать. Выходить на улицу тоже было нельзя: город – на военном положении.
Преподаватели требовали в «темные» часы обязательного совместного пребывания малышей, средних и старших. Иногда учителя что-то рассказывали ребятам, иногда ребята разговаривали сами, обсуждая насущные вопросы коммунской жизни. Сегодня обсуждали особый вопрос, и поэтому было особенно оживленно. Даже не замечали темноты и холода. А к недоеданию уже как-то притерпелись: даже они, которых обычно старались, сколько возможно, подкармливать, давно уже не видели ничего кроме жидкого рыбного супа и скудной каши из дробленой крупы. Вопрос заключался в том, что их Коммуне, которая считалась образцовой, городской совет предложил помочь в ремонте большого здания по соседству, и содействовать созданию там еще одной такой же коммуны. Сашу очень захватила эта идея. Она представляла, как они будут рассказывать, показывать, объяснять…
Издалека прогудел гудок завода, возвещающий начало ночной смены.
– Двенадцать? Почему же ребята не спят? Колкер, Любезный, Мацко, – плохо выполняете обязанности свои! – дежурный воспитатель повысил голос, чтоб перекрыть шум.
– Завтра, – задумчиво сказал Фима Колкер, ероша мелкокучерявые черные волосы, – с ребятами будет проведена беседа о том, что по ночам надо спать, а не митинговать. Но поскольку мы сегодня такой беседы не проводили, мы не имеем морального права требовать от неохваченных пропагандой масс своевременного укладывания.
– Ты просто какой-то казуист, Колкер, – с оттенком восхищения отметил воспитатель, уже несколько оперившийся молодой историк.
– А это что, Антон Игнатьевич, за слово такое? Не объясняйте, не надо мне! Только успокойте, скажите, что это не ругательство, дошедшее из вашего любимого Древнего мира .
– Нет, нет, – невольно расплылся в улыбке историк. – Вам неоткуда, да и не к чему знать этот термин, Колкер, он, скорее, из области юриспруденции, чем из истории… Вы мне лучше вот что скажите, Фима: что делали в сегодняшний день дежурные по часам? Почему нет боя?
– Скорее всего, что салажки забыли завести их. Однако можно допустить и другое: – механизм часов попросту сыграл в ящик. При таком положении дел, Антон Игнатьевич, ругать малышню не за что. – Фима сохранял отменное спокойствие. И даже его выпуклые серые глаза не смеялись.– Семиков и Пустыгин, дети мои, скажите Антону Игнатьичу, что забыли завести, пока я не ушел. Без меня вам будет давать по шее ни кто иной, как сам Люпус. Дети мои, это очень стря-я- я-яшно. – Фимка выкатил на младших глаза.