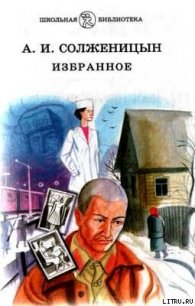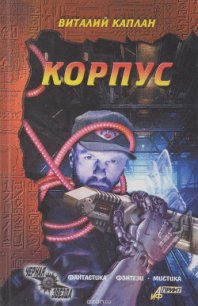Раковый корпус - Солженицын Александр Исаевич (книги полностью бесплатно txt) 📗
Здесь не было жарко: зоопарк располагался привольно, и уже первую тень давали деревья. Всё более отдыхая, Олег миновал целую птичью ферму – кур андалузских, гусей тулузских, холмогорских – и поднялся в гору, где держали журавлей, ястребов, грифов, и наконец на скале, осенённой клеткою как шатром, высоко над всем зоопарком жили сипы белоголовые, а без надписи принять бы их за орлов. Их поместили сколько могли высоко, но крыша клетки уже была низка над скалой, и мучились эти большие угрюмые птицы, расширяли крылья, били ими, а лететь было некуда.
Глядя, как мучается сип, Олег сам лопатками повёл, расправляя. (А может, это утюг уже надавливал на спину?)
Всё у него вызывало истолкование. При клетке надпись: «Неволю белые совы переносят плохо». Знают же! – и всё-таки сажают!
А кой её выродок переносит хорошо, неволю?
Другая надпись: «Дикобраз ведёт ночной образ жизни». Знаем: в полдесятого вечера вызывают, в четыре утра отпускают.
А «барсук живёт в глубоких и сложных норах». Вот это по-нашему! Молодец барсук, а что остаётся? И морда у него матрасно-полосатая, чистый каторжник.
Так извращённо Олег всё здесь воспринимал, и, наверно, не надо было ему сюда, как и в Универмаг.
Уже много прошло дня – а радостей обещанных что-то не было.
Вышел Олег к медведям. Чёрный с белым галстуком стоял и тыкался носом в клетку, через прутья. Потом вдруг подпрыгнул и повис на решётке верхними лапами. Не галстук белый у него был, а как бы цепь священника с нагрудным крестом. Подпрыгнул – и повис! А как ещё он мог передать своё отчаяние?
В соседней камере сидела его медведица с медвежонком.
А в следующей мучился бурый медведь. Он всё время безпокойно топтался, хотел ходить по камере, но только помещался поворачиваться, потому что от стенки до стенки не было полных трёх его корпусов.
Так что по медвежьей мерке это была не камера, а бокс.
Увлечённые зрелищем дети говорили между собой: «Слушай, давай ему камней бросим, он будет думать, что конфеты!»
Олег не замечал, как дети на него самого оглядывались. Он сам здесь был лишний безплатный зверь, да не видел себя.
Спускалась аллея к реке – и тут держали белых медведей, но хоть вместе двоих. К ним в вольеру сливались арыки, образуя ледяной водоём, и туда они спрыгивали освежиться каждые несколько минут, а потом вылезали на цементную террасу, отжимали лапами воду с морды и ходили, ходили, ходили по краю террасы над водой. Полярным медведям, каково приходилось им здесь летом, в сорок градусов? Ну, как нам в Заполярьи.
Самое запутанное в заключении зверей было то, что, приняв их сторону и, допустим, силу бы имея, Олег не мог бы приступить взламывать клетки и освобождать их. Потому что потеряна была ими вместе с родиной и идея разумной свободы. И от внезапного их освобождения могло стать только страшней.
Так нелепо размышлял Костоглотов. Так были выворочены его мозги, что уже ничего он не мог воспринимать наивно и непричастно. Что б ни видел он теперь в жизни – на всё возникал в нём серый призрак и подземный гул.
Мимо печального оленя, больше всех здесь лишённого пространства для бега, мимо священного индийского зебу, золотого зайца агути – Олег снова поднялся, теперь к обезьянам.
У клеток резвились дети и взрослые, кормили обезьян. Костоглотов без улыбки шёл мимо. Без причёсок, как бы все остриженные под машинку, печальные, занятые на своих нарах первичными радостями и горестями, они так напоминали ему многих прежних знакомых, просто даже он узнавал отдельных – и ещё сидевших где-то сегодня.
А в одном одиноком задумчивом шимпанзе с отёчными глазами, державшем руки повисшие между колен, Олег, кажется, узнал и Шулубина – была у него такая поза.
В этот светлый жаркий день на койке своей между смертью и жизнью бился Шулубин.
Не предполагая найти интересное в обезьяньем ряде, Костоглотов быстро его проходил и даже начал скашивать, – как увидел на дальней клетке какое-то объявление и нескольких человек, читавших его.
Он пошёл туда. Клетка была пуста, в обычной табличке значилось: «макака-резус». А в объявлении, наспех написанном и приколотом к фанере, говорилось:
«Жившая здесь обезьянка ослепла от безсмысленной жестокости одного из посетителей. Злой человек сыпнул табака в глаза макаке-резус».
И – хлопнуло Олега! Он до сих пор прогуливался с улыбкой снисходительного всезнайки, а тут захотелось завопить, зареветь на весь зоопарк, – как будто это ему в глаза насыпали!
Зачем же?!.. Просто так – зачем же?.. Безсмысленно – зачем же?
Больше всего простотою ребёнка хватало написанное за сердце. Об этом неизвестном, благополучно ушедшем человеке не сказано было, что он – антигуманен. О нём не было сказано, что он – агент американского империализма. О нём сказано было только, что он – злой. И вот это поражало: зачем же он просто так – злой? Дети! Не растите злыми! Дети! Не губите беззащитных!
Уж было объявление прочтено и прочтено, а взрослые и маленькие стояли и смотрели на пустую клетку.
И потащил Олег свой засаленный, прожжённый и простреленный мешок с утюгом – в царство пресмыкающихся, гадов и хищников.
Лежали ящеры на песке, как чешуйчатые камни, привалясь друг ко другу. Какое движение потеряли они на воле?
Лежал огромный чугунно-тёмный китайский аллигатор с плоской пастью, с лапами, вывернутыми как будто не в ту сторону. Написано было, что в жаркое время не ежедневно глотает он мясо.
Этот разумный мир зоопарка с готовой едою, может быть, вполне его и устраивал?
Добавился к дереву, как толстый мёртвый сук, мощный питон. Совсем он был неподвижен, и только острый маленький язычок его метался.
Вилась ядовитая эфа под стеклянным колпаком.
А уж простых гадюк – по несколько.
Никакого не было желания всех этих рассматривать. Хотелось представить лицо ослепшей макаки.
А уже шла аллея хищников. Великолепные, друг от друга отменяясь богатой шерстью, сидели тут и рысь, и барс, и пепельно-коричневая пума, и рыжий в чёрных пятнах ягуар. Они были – узники, они страдали без свободы, но относился к ним Олег как к блатным. Всё-таки можно разобрать в мире, кто явно виноват. Вот написано, что ягуар за месяц съедает сто сорок килограммов мяса. Нет, этого представить себе нельзя! чистого красного мяса! А в лагерь такого не привозят, в лагерь – жилы да требуху, на бригаду килограмм.
Олег вспомнил тех расконвоированных ездовых, которые обворовывали своих лошадей: ели их овёс и так выжили сами.
Дальше увидел он – господина тигра. В усах, в усах было сосредоточено его выражение хищности! А глаза – жёлтые… Запуталось у Олега в голове, и он стоял и смотрел на тигра с ненавистью.
Один старый политкаторжанин, который был когда-то в туруханской ссылке, а в новое время встретился в лагере с Олегом, рассказывал ему, что не бархатно-чёрные, а именно жёлтые были глаза!
Прикованный ненавистью, Олег стоял против клетки тигра.
Всё-таки просто так, просто так – зачем??
Его мутило. Ему не хотелось больше этого зоопарка. Ему хотелось бежать отсюда. Он не пошёл уже ни к каким львам. Он стал выбираться к выходу наугад.
Мелькнула зебра, Олег покосился и шёл.
И вдруг! – остановился перед…
Перед чудом духовности после тяжёлого кровожадия: антилопа Нильгау – светло-коричневая, на стройных лёгких ногах, с настороженной головкой, но ничуть не пугаясь, – стояла близко за сеткой и смотрела на Олега крупными доверчивыми и – милыми! да, милыми глазами!
Нет, это было так похоже, что вынести невозможно! Она не сводила с него мило-укоряющего взгляда. Она спрашивала: «Ты почему ж не идёшь? Ведь полдня уже прошло, а ты почему не идёшь?»
Это – наваждение было, это – переселение душ, потому что явно же она стояла тут и ждала Олега. И едва он подошёл, сразу стала спрашивать укорными, но и прощающими глазами: «Не придёшь? Неужели не придёшь? А я ждала…»
Да почему ж он не шёл?! Да почему ж он не шёл!..