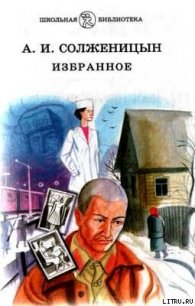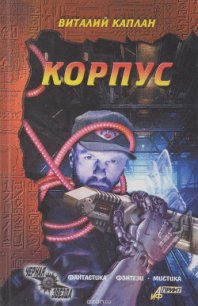Раковый корпус - Солженицын Александр Исаевич (книги полностью бесплатно txt) 📗
<…> Дивный аргумент: границу финскую и то отодвинули! И я – бит, и в повести наклеветал. Я же не могу “внутреннюю концепцию” открыть до конца: “Так нападение на Финляндию и была агрессия!” Тут не в Дементьеве одном, дальше в разговоре и Твардовский меня прервёт:
– О принципиальных уступках с вашей стороны нет и речи: ведь вы же не против советской власти, иначе бы мы с вами и разговаривать не стали.
<…> Затаскали эту “советскую власть”, и даже в том никого из них не вразумишь, что советской-то власти с 1918 года нет.
В чём объединились все: осудили Авиету, и фельетонный стиль главы, и вообще все высказывания о советской литературе, какие только есть в повести: “им здесь не место”. <…> Здесь удивила меня общая немужественность (или забитость, или согбенность) “Нового мира”: по их же тяжёлой полосе 1954 года, когда Твардовский был снят за статью Померанцева “Об искренности”, я брал за них реванш, взглядом стороннего историка, а они все дружно во главе с Твардовским настаивали: не надо! Упоминать “голубенькую обложку” – не надо! защищать нас – не надо! <…>
Итак, раскололись мнения “низовых” и “верховых”, надо ли мою повесть печатать, и камнем последним должно было лечь мнение Твардовского.
Каким же он бывал разным! – в разные дни, а то – в часы одного и того же дня. Выступил он – как художник, делал замечания и предложения, далёкие от редакционных целей, а для кандидата ЦК и совсем невозможные:
– Искусство на свете существует не как орудие классовой борьбы. Как только оно знает, что оно орудие, оно уже не стреляет. Мы свободны в суждениях об этой вещи: мы же, как на том свете, рассуждаем – пойдёт или не пойдёт… Мы вас читаем не редакторским, а читательским глазом. Это счастливое состояние редакторской души: хочется успеть прочитать… Современность вещи в том, что разбуженное народное сознание предъявляет нравственный счёт… Не завершено? Произведения великие всегда несут черты незавершённости: “Воскресение”, “Бесы”, да где этого нет?.. Эту вещь мы хотим печатать. Если автор ещё над ней поработает – запустим её и будем стоять за неё по силам и даже больше!
Так он внезапно перевесил решение – за “младших” (они растрогали его своими горячими речами) и против своих заместителей (хотя, очевидно, обещал им иначе). <…>
Возражал я им всем дотошно, но лишь потому, что все их выступления успел хорошо записать, и вот они всё равно лежали передо мной на листе. Только одно местечко с подъёмом: каких уступок от меня хотят? Русановых миллионы, над ними не будет юридического суда, тем более должен быть суд литературы и общества. А без этого мне и литература не нужна, и писать не хочу.
Ни в бреде Русанова, ни в “анкетном хозяйстве”, ни в навыках “нового класса” я не собирался сдвинуться. А в остальном все часы этого обсуждения я заметил за собой незаинтересованность: как будто не о моей книге речь, и безразлично мне, что решат.
Ведь самиздатские батальоны уже шагали!.. А в печатание легальное я верить перестал. Но пока марш батальонов не донёсся до кабинета Твардовского, надо было пробовать. Тем более что 2-ю часть я предвидел ещё менее “проходимой”.
Нет, они не требовали от меня убирать анкетное хозяйство или черты нового класса, или комиссию по чистке, или ссылку народов. А уж ленинградскую блокаду мог я и разделить между Сталиным и Гитлером. Главу с Авиетой со вздохом пока отсечь. Бессмысленнее и всего досаднее было – менять название. Ни одно взамен не шло.
Всё ж я покорился, через неделю вернул в “Н. мир” подстриженную рукопись и в скобках на крайний случай указал Твардовскому запасное название (что-то вроде “Корпус в конце аллеи”, вот так всё и мазали). (Запасное название было «От среды до четверга». – В. Р.)
Ещё через неделю (19 июля. – В. Р.) состоялось новое редакционное обсуждение. Случайно ли, не случайно, но не было: ни Лакшина, считавшего бы грехом совести держать эту рукопись взаперти; ни Марьямова с нравственным долгом довести её до читателя. Зато противники все были тут. Сегодня они были очень сдержанны, не гневались нисколько: ведь они уже сломили Твардовскому хребет там, за сценой.
Теперь начал А. Т. – смущённо, двоясь. Сперва он неуверенно обвинял меня в “косметической” недостаточной правке (зато теперь Дементьев в очень спокойном тоне за меня заступился – о, лиса! – де, и правка моя весьма существенна, и вещь стала закончена… от отсечения главы!). Теперь требовал А. Т. совсем убрать и смягчённый разговор о ленинградской блокаде, и разговор об искренности. Однако тут же порывом отбросил все околичности и сказал:
– Внешних благоприятных обстоятельств для печатания сейчас нет. Невозможно и рискованно выступать с этой вещью, по крайней мере в этом году. – (Словно на будущий “юбилейный”, 50 лет Октября, станет легче!..) – Мы хотим иметь такую рукопись, где могли бы отстаивать любое её место, разделяя его. – (Требование очень отяготительное: автор нисколько не должен отличаться от редакции? должен заранее к ней примериться?) – А Солженицын, увы, – тот же, что и был…
И даже нависание над раковым корпусом лагерной темы, прошлый раз объявленное им вполне естественным, теперь было названо “литературным, как Гроссман писал о лагере по слухам”. (Я о лагере – и “по слухам”!) <…> В противоречие же со всем сказанным А. Т. объявил: редакция считает рукопись “в основном одобренной”, тотчас же подписывает договор на 25 %, а если я буду нуждаться, то потом переписывает на 60 %. “Пишите 2-ю часть! Подождём, посмотрим”.
Вторую-то часть я писал и без них. А пока предлагалось мне получить деньги за то, чтобы первую сунуть в гроб сейфа и уж конечно, по правилам “Нового мира” и по личным на меня претензиям А. Т., – никому ни строчки, никому ни слова, не дать “Раковому корпусу” жить, пока в один ненастный день не приедет полковник госбезопасности и не заберёт его к себе.
Такое решение редакции искренно меня облегчило: все исправления можно было тотчас уничтожить, вещь восстановить – как она уже отстукивалась на машинках, передавалась из рук в руки. Отпадала забота: как выдержать новый взрыв А. Т., когда он узнает, что вещь ходит. Мы были свободны друг от друга!
Но всего этого я не объявил драматически, потому что лагерное воспитание не велит объявлять вперёд свои намерения, а сразу и молча действовать. И я только то сказал, что договора пока не подпишу, а рукопись заберу. <…>
Однако не прошло и месяца, как Твардовский через родственницу моей жены Веронику Туркину срочно вызвал меня. Меня, как всегда, “не нашли”, но 3 августа я оказался в Москве и узнал: донеслось до А. Т., что ходит мой “Раковый корпус”, и разгневан он выше всякой меры; только хочет убедиться, что не я, конечно, пустил его (разве б я смел?!..) <…>
Я не поехал на вызов Твардовского, а написал ему так:
“…Если вы взволнованы, что повесть эта стала известна не только редакции «Нового мира», то… я должен был бы выразить удивление… Это право всякого автора, и было бы странно, если бы вы намерились лишить меня его. К тому же, я не могу допустить, чтобы «Раковый корпус» повторил печальный путь романа: сперва неопределённо-долгое ожидание, просьбы к автору от редакции никому не давать его читать, затем роман потерян и для меня и для читателей, но распространяется по какому-то закрытому списку…”» [28]
Забрав рукопись из «Нового мира», А. С. предложил её ленинградскому журналу «Звезда» и казахстанскому «Простору». В начале 1967 г. ответил на пожелания редакции «Простора»: «Убрать длинноты я не могу по той причине, что я их там не вижу, иначе убрал бы ещё до посылки рукописи в редакцию. “Довести до кондиции” также не могу, ибо не знаю уровня кондиции, принятой в Вашем журнале, а по мне “кондиция” удовлетворительна и такая. Прошу Вас конкретно указать, что для Вас в рукописи неприемлемо, либо вернуть рукопись» [29]. С такой же просьбой автор обратился в редакцию «Звезды». Ответа не последовало. А еженедельники «Литературная Россия», «Радио и телевидение» не рискнули напечатать даже главу из «Ракового корпуса» [30].
28
А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. С. 144–149.
29
Наталья Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. С. 281.
30
Наталья Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. С. 246.