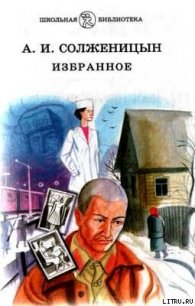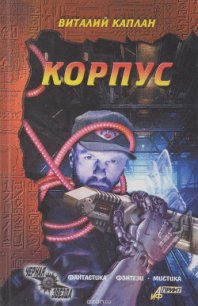Раковый корпус - Солженицын Александр Исаевич (книги полностью бесплатно txt) 📗
Заладили и долго ещё гудели об аксиомах и следствиях. Но Павел Николаевич решил терпеть, демонстративно повёрнутый к ним спиной. Наконец замолчали и разошлись. С двойным снотворным заснул и умолк Азовкин. Так тут начал кашлять аксакал, к которому Павел Николаевич повёрнут был лицом. И свет уже потушили, а он, проклятый, кашлял и кашлял, да так противно, подолгу, со свистом, что, казалось, задохнётся.
Повернулся Павел Николаевич спиной и к нему. Он снял полотенце с головы, но настоящей темноты всё равно не было: падал свет из коридора, там слышался шум, хождение, гремели плевательницами и вёдрами.
Не спалось. Давила опухоль. Такая счастливая, такая полезная жизнь была на обрыве. Было очень жалко себя. Одного маленького толчка не хватало, чтоб выступили слёзы.
И толчок этот не упустил добавить Ефрем. Он и в темноте не унялся и рассказывал Ахмаджану по соседству идиотскую сказку:
– А зачем человеку жить сто лет? И не надо. Это дело было вот как. Раздавал, ну, Аллах жизнь и всем зверям давал по пятьдесят лет, хватит. А человек пришёл последний, и у Аллаха оставалось только двадцать пять.
– Четвертная, значит? – спросил Ахмаджан.
– Ну да. И стал обижаться человек: мало! Аллах говорит: хватит. А человек: мало! Ну, тогда, мол, пойди сам спроси, может у кого лишнее, отдаст. Пошёл человек, встречает лошадь. «Слушай, – говорит, – мне жизни мало. Уступи от себя». – «Ну, на, возьми двадцать пять». Пошёл дальше, навстречу собака. «Слушай, собака, уступи жизни!» – «Да возьми двадцать пять!» Пошёл дальше. Обезьяна. Выпросил и у неё двадцать пять. Вернулся к Аллаху. Тот и говорит: «Как хочешь, сам ты решил. Первые двадцать пять лет будешь жить как человек. Вторые двадцать пять будешь работать как лошадь. Третьи двадцать пять будешь гавкать как собака. И ещё двадцать пять над тобой, как над обезьяной, смеяться будут…»
3
Хотя Зоя была толкова, проворна и очень быстро сновала по своему этажу от стола к кроватям и снова к столу, она увидела, что не успевает выполнить к отбою всех назначений. Тогда она подогнала, чтоб кончить и погасить в мужской палате и в малой женской. В большой же женской – огромной, где стояло больше тридцати коек, – женщины никогда не угоманивались вовремя, гаси им свет или не гаси. Многие там лежали подолгу, утомились от больницы, сон у них был плох, душно, постоянно шёл спор – держать ли балконную дверь открытой или закрытой. А было и несколько изощрённых любительниц поговорить из угла в угол. До полуночи и до часу ночи тут всё обсуждали то цены, то продукты, то мебель, то детей, то мужей, то соседок – и до самых безстыжих разговоров.
А сегодня там ещё мыла пол санитарка Нэля – крутозадая горластая девка с большими бровями и большими губами. Она давно уже начала, но никак не могла кончить, встревая в каждый разговор. Между тем ждал своей ванночки Сибгатов, чья кровать стояла в вестибюле перед входом в мужскую палату. Из-за этих вечерних ванночек, а также стесняясь дурного запаха от своей спины, Сибгатов добровольно оставался лежать в вестибюле, хотя он был здесь издавнее всех старожилов – уж будто и не больной, а на постоянной службе.
Быстро мелькая по женской палате, Зоя сделала Нэле одно замечание и второе, но Нэля только огрызнулась, а подвигалась медленно. Она была не моложе Зои и считала обидой подчиняться девчёнке. Зоя пришла сегодня на работу в праздничном настроении, но это сопротивление санитарки раздражало её. Вообще Зоя считала, что всякий человек имеет право на свою долю свободы и, приходя на работу, тоже не обязательно должен выложиться до изнемоги, но где-то была разумная мера, а тем более находясь при больных.
Наконец и Зоя всё раздала и кончила, и Нэля дотёрла пол, потушили свет у женщин, потушили и в вестибюле верхний, был уже двенадцатый час, когда Нэля развела тёплый раствор на первом этаже и оттуда принесла Сибгатову в его постоянном тазике.
– О-о-ой, уморилась, – громко зевнула она. – Закачусь я минуток на триста. Слушай, больной, ты ведь целый час будешь сидеть, тебя не дождёшься. Ты потом сам снеси тазик вниз, вылей, а?
(В этом крепком старом здании с просторными вестибюлями не было наверху слива.)
Каким Шараф Сибгатов был раньше – уж теперь нельзя было догадаться, не по чему судить: страдание его было такое долгое, что от прежней жизни уже как бы ничего и не осталось. Но после трёх лет непрерывной гнетучей болезни этот молодой татарин был самый кроткий, самый вежливый человек во всей клинике. Он часто слабо-слабо улыбался, как бы извиняясь за долгие хлопоты с собой. За свои четырёх– и шестимесячные лежанья он тут знал всех врачей, сестёр и санитарок как своих, и они его знали. А Нэля была новенькая, несколько недель.
– Мне тяжело будет, – тихо возразил Сибгатов. – Если куда отлить, я бы по частям отнёс.
Но зоин стол был близко, она слышала и прискочила:
– Как тебе не стыдно! Ему спину искривлять нельзя, так он тебе таз понесёт, да?
Она это всё как бы выкрикнула, но полушёпотом, никому, кроме них троих, не слышно. А Нэля спокойно отозвалась, но на весь второй этаж:
– А чего стыдно? Я тоже как сучка затомилась.
– Ты на дежурстве! Тебе деньги платят! – ещё приглушённей возмущалась Зоя.
– Хой! Платят! Разве эт деньги? Я на текстильном и то больше заработаю.
– Тш-ш! Тише ты можешь?
– О-о-ой, – вздохнула-простонала на весь вестибюль ширококудрая Нэля. – Милая подружка подушка! Спать-то как хочется-а… Ту ночь с шоферянами прогуляла… Ну ладно, больной, ты тазик потом подсунь под кровать, я утром вынесу.
Глубоко-затяжно зевнув, не покрывая рта, в конце зевка сказала Зое:
– Тут я, в заседаниях буду, на диванчике.
И, не дожидаясь разрешения, пошла к угловой двери – там была с мягкой мебелью комната врачебных заседаний и пятиминуток.
Она оставляла ещё многую недоделанную работу, невычищенные плевательницы, и в вестибюле можно было помыть пол, но Зоя посмотрела ей в широкую спину и сдержалась. Не так давно и сама она работала, но начинала понимать этот досадный принцип: кто не тянет, с того и не спросишь, а кто тянет – и за двоих потянет. Завтра с утра заступит Елизавета Анатольевна, она вычистит и вымоет за Нэлю и за себя.
Теперь, когда Сибгатова оставили одного, он обнажил крестец, в неудобном положении опустился в тазик на полу около кровати – и так сидел, очень тихо. Ото всякого неосторожного движения ему было больно в кости, но ещё бывало паляще больно и от касания к повреждённому месту, даже от постоянного касания бельём. Что там у него сзади, он не видел никогда, только иногда нащупывал пальцами. В позапрошлом году в эту клинику его внесли на носилках – он не мог вставать и ногами двигать. Его смотрели тогда многие доктора, но лечила всё время Людмила Афанасьевна. И за четыре месяца боль совсем прошла! – он свободно ходил, наклонялся и ни на что не жаловался. При выписке он руки целовал Людмиле Афанасьевне, а она его только предупреждала: «Будь осторожен, Шараф! Не прыгай, не ударяйся!» Но на такую работу его не взяли, а пришлось опять экспедитором. Экспедитору – как не прыгать из кузова на землю? Как не помочь грузчику и шофёру? Но всё было ничего до одного случая – покатилась с машины бочка и ударила Шарафа как раз в больное место. И на месте удара загноилась рана. Она не заживала. И с тех пор Сибгатов стал как цепью прикован к раковому диспансеру.
С непроходящим чувством досады Зоя села за стол и ещё раз проверяла, все ли процедуры исполнила, дочёркивая расплывающимися чернильными чёрточками по дурной бумаге уже расплывшиеся чернильные строки. Писать рапорт было безполезно. Да и не в натуре Зои. Надо бы самой справиться, но именно с Нэлей она справиться не умела. Поспать – ничего плохого нет. При хорошей санитарке Зоя и сама бы полночи поспала. А теперь надо сидеть.
Она смотрела в свою бумажку, но слышала, как подошёл мужчина и стал рядом. Зоя подняла голову. Стоял Костоглотов – неукладистый, с недочёсанной угольной головой, большие руки почти не влезали в боковые маленькие карманчики больничной куртки.