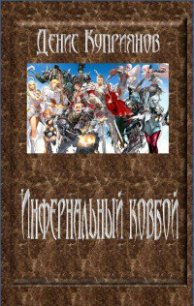Самшитовый лес. Этот синий апрель... Золотой дождь - Анчаров Михаил Леонидович (читать книги полностью без сокращений .txt, .fb2) 📗
И вот среди раздолбанных кирпичей, среди разгромленного барахла я увидел куклу.
Она лежала, раскинув ручки, - символ чужой любви… чужой семьи… Она была совсем рядом.
Глава пятая
ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
1
Ветры времени треплют шинель, бьют в глаза, и то, что было, - это то, что есть, никуда не уйти от этого, и прошлое живет и шелестит, словно трава под босыми ногами, словно ветер гоняет газету на вытоптанном дворе. А куда идти, куда глаз кинуть, если все разъехались, ушли, исчезли, отвернулись от детства, и ветер гоняет газету на пустом дворе.
- Здравствуй.
- Здравствуй.
- Ну и как ты?
- Ничего. А ты?
- Ничего.
- Все там же?
- Ага. А ты?
- И я там же.
Поговорили и разошлись. А где "там же"? Годы пролетели, ослепшие от крови, и где он "там же"? То ли в армии, то ли работает.
Вернулся ли с войны или из эвакуации, и боязно спросить о родных - живы ли, а как брат его старший - жив или мать воет над похоронкой?
Ой ты, море синее, а тоска зеленая… Ты не плачь, не плачь, красавица… вода и так соленая…
Война окончилась, а Гошка служил.
После выставки на Кузнецком он пришел домой, посидел, посмотрел в окно на синий снег, лежавший на крышах благушинских домов, на дальнее серо-зеленое здание школы со слепыми стеклами, на черные точки пешеходов, подумал-подумал и заснул, положив голову на подоконник. И так проспал до утра и не видел снов - значит, встреча и выставка не зацепили воображения и не оставили следа в душе, все засыпал снежок.
Гошка проснулся, одурев от душного воздуха батареи отопления, которое почему-то называлось центральным, удивился этому названию и ополоснул лицо под краном, расстегнув китель, потом подумал и побрился, поскоблил подбородок опасной бритвой, опять удивился, почему бритва опасная. Утро было такое белое, такое новое и чистое, что все слова торчали отдельно и имели первоначальный смысл.
Что-то вдруг медленно, но верно начало торопиться в нем. Он торопливо пожевал хлеба и пайковой каши из концентратов и похлебал чаю, макая в него обломок колотого сахара, торопливо надел шинель и вышел на хрустящий снег. Торопливые звоночки трамваев, часовой в проходной будке штаба, где Панфилов без толку торчал уже два месяца после возвращения с Дальнего Востока. Торопливые штабные ребята в поскрипывающих коридорах, гудение лифта и стук машинок в кабинетах.
В кабинете было тихо. Двое парней подшивали какие-то белые бумаги с фиолетовыми печатями, и Гошка тихо взял свои бумаги, попытался понять, что в них написано, но почему-то в старых войсковых бумагах двухгодичной давности он увидел вместо танковых боев под Мулином и десантно - посадочных операций белый снег на улицах Харбина в районе Фуцзядяня и не убитого еще тогда, не погибшего Фитиля в ушанке набекрень и ощутил запах кунжутного масла из харчевен. Памфилий вдруг понял, что не в состоянии вызвать в памяти ничего плохого, понял, что вот уже несколько часов он живет в двойном измерении. Одна часть его души млеет от тишины и наслаждается неподвижностью, а другая торопливо спешит и мчится куда-то. Это было странное чувство, оно что-то напоминало, но Гошка никак не мог вспомнить - что. Только к концу рабочего дня он почтя с испугом догадался, на что оно было похоже, это чувство.
Оно было похоже на радость.
Это было настолько острое ощущение, что казалось невозможным. Как невозможно повторение детства с его верой в то, что все обстоит благополучно и уж, конечно, все несчастья прошли и о них можно, поеживаясь, прочесть в старых книжках, и уж, конечно, тебя лично они не коснутся. Потому что неизвестно, за какие заслуги тебе выпала необыкновенная удача - жить.
Это было невозможное чувство. Но вопреки всякой логике оно было, это чувство, даже не чувство, а острое ощущение, и Гошка тогда впервые подумал, что, может быть, пора уже начинать изучать опыт радости, а не опыт беды.
Вот уже посинело за окнами, рабочий день двигался к концу, и Гошка вдруг услышал звуки, которых не слышал тысячу лет. Гошка услышал, как за окнами дворники скребли снег, и вдруг понял - ведь он же еще совсем молодой, а война кончилась, и вдруг это еще не конец, а только начало, не искореженное продолжение довоенной жизни, а начало совсем новой.
Дворники скребут снег, и он слышит звуки, и значит, придет весна, и откроют окна, и он услышит звон трамвая и крик воробьев.
Нет. Радость не проходила.
Захотев испытать ее устойчивость, Гошка припомнил выставку - и ничего, тоска не появлялась. Ну что ж - значит, искусство, мечты о нем, догадка, что и Гошке предстоит прикоснуться к нему, не оправдались, и это не страшно, значит, Гошка будет не описывать, как люди дышат, а дышать. Потому что это очень приятно.
Вместе со всеми он спустился в лифте, вышел на улицу и обнаружил на редкость прекрасный мир, наполненный людьми с озабоченными лицами. Нет, его уже ничто не могло сбить на старое.
Гошка позвонил высокой дипломнице.
- Нину, пожалуйста. Але, Нина? Это Панфилов говорит. Ты что смеешься?.. - Гошка повесил трубку и лениво подумал: "Откуда она узнала, что я позову ее ехать к Николаю Васильевичу?" Хотя что тут удивительного? Она просто шла по внешнему кругу - молодого офицера пригласил в мастерскую академик живописи, офицер - обрадовался и боится упустить случай - это же так интересно. Так оно и выглядело, так оно и было на самом деле, и, видимо, многие, с кем знакомился этот художник, поддавались его дружелюбию и торопились закрепить знакомство. Она только не могла знать, эта красивая девушка, что в промежутке между этой встречей в музее и этим звонком Гошке расхотелось жить.
Вчера пришел Костя Якушев и сказал:
- Гошка, пошли на выставку Кончаловского. На Кузнецком в салоне выставка, как до войны.
- А чего я там не видел?
- Говорят, его скоро формалистом объявят. Аносов тоже пойдет. …Им как говорили до войны? Надо стремиться к знаниям. Они и стремились, благушинские, люди окраины, как им было не стремиться, когда старшие твердили - не ленитесь, байбаки, для вас воевали со всей Антантой, голодали, старались, дома строили - вам в них жить, глотайте театры, выставки, библиотеки - будете знать все, что накопила культура. Они и глотали. Но потом было три войны - финская, германская и японская, и Благуша стала, как роща после обстрела. А потом, кто остался жив, вернулся на Благушу, оплакал свое положенное на душевных пепелищах, отскрипел зубами по ночам в лютой мальчишеской тоске и вышел на улицу с сухими глазами.
Начиналась зима. Кузнецкий был в мокром снегу. Пора уже менять офицерскую фуражку на ушанку, но не хотелось.
Гошка не любил ушанку. Завяжешь тесемки под подбородком - и сразу похож на младенца-кретина. Конечно, тепло, однако выглядываешь из шапки, как пес из будки.
А в фуражке хоть и продувают все ветра, однако потрешь ладонями уши - и сразу чувствуешь себя человеком. А этого хотелось больше всего - быть человеком.
Пришли они втроем в салон на Кузнецком и стали смотреть выставку Кончаловского.