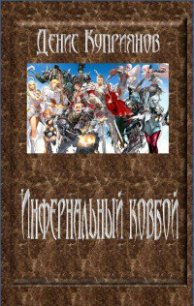Самшитовый лес. Этот синий апрель... Золотой дождь - Анчаров Михаил Леонидович (читать книги полностью без сокращений .txt, .fb2) 📗
- Договорились?
Это насчет посещения его мастерской.
- Ну что? - спросил Костя.
- Не тронь его, - оказала высокая, - Гоша сейчас как во сне.
А вторая сказала:
- Это он умеет, очаровывать. Вот приедем в мастерскую, он всем наговорит тысячу вещей о Возрождении, закидает именами художников, он это умеет.
- Действительно умеет? - спросил Гошка.
Тут они сами наговорили три короба всякой всячины, и хотя все это было насчет его образованности и эрудиции, то есть о том, к чему должен стремиться дипломник-искусствовед, как-то так получалось, что их эрудиция - это хорошо, это прилично, а его эрудиция нехороша, неприлична и почти подозрительна. Потому что, с одной стороны, он как бы посягал на искусствоведово добро, а с другой - пускал это добро в оборот, оно у него плясало, это добро, и выделывало антраша, в общем работало, а не хранилось на полках с обозначениями школ и течений. И дипломницы даже завывали от раздражения, они кричали грубыми словами - эклектизм, эпигонство, нет своего лица, нет рисунка, нет композиции, эстетствующий натурализм, архаический формализм, провинциализм, изм, изм, - кричали они и притопывали озябшими ногами.
- А фашизма там нет? - спросил Панфилов.
И тогда и теперь Гошку интересовало только это.
- А фашизма там нет? - спросил Панфилов.
Они испугались и затормозили, сказали, что нет, фашизма там нет.
- Тогда, может быть, это своеобразие? - спросил Гошка.
Они обиделись и ушли. Потому что это им в голову не приходило, а пришло в голову постороннему военному.
- А в общем-то он человек странный, - сказал Костя и добавил: - Впрочем, только человек и бывает странным. Свинство начинается со стандарта.
- А что, они правду говорили, что он плохой художник?
- Правду. Только он не просто плохой художник, он плохой великий художник.
- Объясни, - сказал Лешка.
Он все время молчал. А когда начинали разговаривать - уходил смотреть сирени Кончаловского, портрет Алексея Толстого со снедью, битую дичь, зимние окна.
Долго стоял у портрета жены Алексея Толстого, красавицы. Потом сказал, что она похожа на Шурку-певицу. Была такая женщина у них на Благуше до войны. Инструктор райкома комсомола.
- А ты понимаешь, Памфилий? - спросил Лешка.
- Кажется, Рыжик.
Была такая книжка из серии "Жизнь замечательных людей", называлась "Стейниц и Ласкер". Про шахматистов. Вот чем Гошка никогда не мог увлечься - шахматами.
Чересчур нервная игра. Как рыбная ловля. Хочется кому-то в морду дать, когда не клюет, а некому. Так вот, в этой книжке сравнивались Стейниц, открывший шахматную теорию, - он восемь лет был чемпионом мира, и Ласкер - двадцать семь лет был чемпионом мира, великий игрок. И там была поразившая Гошку мысль. Там говорилось, что если из истории шахмат изъять Ласкера, то шахматная история повернула бы в другом направлении.* - Понял, - сказал Лешка. - Хотя Стейниц играл хуже Ласкера…
- Значит, по-твоему, - сказал Памфилий Косте, - если изъять его из истории живописи…
- Сходишь, сам узнаешь что к чему, - сказал Костя.
- Я знаю одно, - сказал Гошка, и это была чистая правда, - я хочу познакомиться с человеком, который умеет очаровывать. Потому что меня давно уже что-то никто не очаровывал. - И это была чистая правда. - И я хочу, чтобы мне наговорили тысячу вещей о Возрождении и закидали именами художников. Не возражаю. Пойдем, ребята?
- Я не пойду, - сказал Костя. - Опасно.
- Почему? - спросил Лешка.
- Он мне как человек нравится безумно. Боюсь влипнуть в ученики. А он всех учеников подминает.
- Ну, мне это не грозит, - сказал Памфилий. - Я не художник. И потом, может, его ученики не тому у него учатся, чему нужно.
- Я тоже не пойду, - сказал Лешка. - Мне некогда. У меня заданий - во!
И он полоснул себя ладонью по кадыку. Худые они какие, гражданские студенты. Не то что я, сытая рожа…
Э-эх…
3
Плохо живем, граждане, грыземся, накапливаем опыт - синяки, раны, память о гибели, могилы в песках, за битого двух небитых дают. Ну, а кому он нужен, битый, чему он научился, человек-отбивная? Осторожности? Так ведь всего не предусмотришь! Изучай трагический опыт, чтоб то не повторилось и это не повторилось. И все равно повторяется. А как бы это начать помаленьку изучать какой-нибудь другой опыт?
Неужели человечеству нечего вспомнить радостного? Может быть, настало время изучать и накапливать опыт радости, а не опыт беды?
Памфилий потом уже как-то пришел к Николаю Васильевичу. Тот грунтовал холст, лежавший на четырех табуретках, кинул флейц в ведро с клеем и сказал:
- Вот как, Гоша, теперь художник приступает к работе? Спорил до утра, поспал полтора часа, проснулся, похрипел, прочистил горло, покурил цигарку, ткнул кисть в краску и начал холст… А знаете, душечка, как в эпоху Возрождения приступал художник к работе? Он двое суток постился, потом ранним утром, на заре, приходил в мастерскую, запирал дверь на ключ… слышите? - запирался на ключ, садился на стул и два часа ждал, пока пыль осядет. …Запрем же на минутку дверь и, пока осядет пыль, еще раз поразмыслим о Гошкиной жизни.
Гошка с детства открыл у себя одно странное уродство. Это была какая-то нелепая меланхолия. Когда выпадал первый снег, Гошка, вместо того чтобы топтать его, вдруг с пронзительной силой вспоминал, как - "помните"? - в прошлом году выпал снег, и каким он сам тогда был и что с ним было. Его охватывала необъяснимая тоска, и он говорил всем - и сверстникам и взрослым - "а помните, а помните…" - а они отмахивались от него и не могли понять, почему ему, дураку, прошлогодний снег дороже нынешнего. А объяснить он не мог. Что-то тоскливо останавливалось в нем.
Когда он признавался в этом, все смеялись, он понимал, что это какой-то детский порок, и надеялся, что это пройдет, и жаждал вырасти. Но это не проходило, и рассказанное нравилось ему больше увиденного, и это осталось навсегда, и ему по-прежнему музыка из чужих окон слаще шепота в своей постели. Но теперь-то он знает что к чему, а тогда не знал. Догадаться же о том, что он, может быть, поэт, ему долго мешало многое. И прежде всего то, что он не любил стихов.
Вокруг было море разливанное стихов: и в книжках, и в газетах, и по радио, и они Гошке не нравились. Тех, кто читал стихи вслух, он тихо ненавидел, а когда читал сам, перед глазами скакали буквочки, и он не понимал, для чего это нужно - укладывать буквы в аккуратные стопки. А потом Гошка заметил, что стихи не нравятся даже тем, кто их хвалит. В школе учительница литературы громко и оживленно читала: "Движутся, движутся, движутся, движутся, в цепи железными звеньями нижутся… идут, идут, идут, на последний редут…" - и Гошке казалось, что ей стыдно, потому что это похоже на "Гей, ребята, все в поля для охоты на коня, лейся, песня, взвейся, голос, рвите ценный конский волос". В общем, то что нравилось Гошке, не годилось никуда. Ему нравилась, например, беспризорная песня:
И у Гошки перехватывало дыхание, когда он слышал про раннюю эту весну. Но это была беспризорная песня, и поэтому не поэзия.
И ему нравился стих:
Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана.
Но эти стихи Маяковскому только прощались тогда. И это Маяковскому, Маяковскому прощалось! Маяковскому, который думал, что он писал про Нетте, а сейчас понятно, что это он написал про себя:
Будто навек за собой из битвы коридоровой Тянешь след героя, светел и кровав.