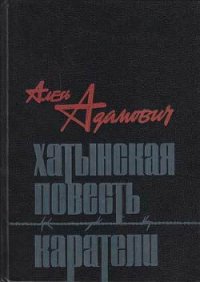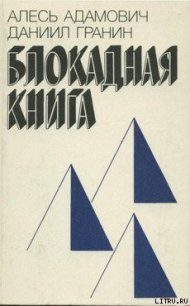Хатынская повесть - Адамович Алесь Михайлович (электронные книги без регистрации txt) 📗
Внезапно сосна, к которой мы подходили, прямо перед глазами нашими брызнула белой щепой, немо и страшно, точно изнутри взорвалась. Глаша уже упала и меня за полу пиджака тянет к земле. А сосны взрываются – белые клочья, точно пена, вырываются из-под коры. Разрывные пули! Но откуда бьют, не понять.
(Когда-то Сашка о таком рассказывал, но там пена была красная, и я будто сам это помню – красное, вспененное. Они брели с Косачем в пыльных колоннах сорок первого года, и вдруг выскочил к дороге заяц, немцы-конвоиры азартно, весело застреляли по нему, а заодно и по колонне. Перед глазами у Сашки, у Косача, вот так брызнув красной пеной, взорвался затылок человека, который шел впереди них.)

Бьют из березнячка, что метрах в ста от нас белеет за стволами сосен. Я толкнул Глашу, показывая, чтобы уползала, а она смотрит, будто я и в самом деле могу что-то изменить в целом мире.
В белой березовой стене, как бы просочившись, появились темные пятна людей. Они отклеиваются от белой стены и падают, отклеиваются и падают, как под немым пулеметом. И тут же снова поднимаются, растягиваются в цепь.
Глаша с земли смотрит на меня, глаза большие, беззащитно-синие, голову приподняла, вот-вот лицо ее тоже взорвется. Красным.
Деревья все брызжут белой щепой в немом ужасе, я ногами надвигаюсь на Глашино лицо, показываю ей свирепой гримасой, чтобы уползала быстрее за поваленную высохшую ель. И все боюсь, что лицо это, обращенное ко мне, взорвется красным, вспененным. Вдруг начинает представляться, что только лицо, огромные синие глаза – Глаша, а ее торопливо уползающее тело – это кто-то, схвативший ее и волокущий, и оттого такой ужас, мольба в этих глазах.
Немцы прошли совсем близко от осыпавшейся, сухой ели, за которой мы лежали. Я даже видел, как ближайший к нам (под каской, в пятнистой плащ-накидке) посмотрел на поваленную ель и сбился с ноги, наверное, подумал, что надо заглянуть за нее или прострочить из автомата. Казалось, даже патрон в моей винтовке пошевелился, такой это был момент. Узкое молодое лицо еще какое-то время было повернуто в нашу сторону, но он не застрочил и не подошел…
А мы, когда их не стало видно, вскочили на ноги и побежали. Бежать было бессмысленно и даже очень опасно, мы не знали, что, кто перед нами окажется через пятьдесят, через сто метров, но в нас прорвалось копившееся все эти минуты чувство, желание быть как можно дальше от того места, где ты сейчас. Но вот опасность перестала напирать, давить в спину, зато встала поджидающе впереди…
«Постоишь – беда догонит, побежишь – напорешься на нее!» – это Рубеж любил повторять, Тимох Рубеж – смешной, странный человек, с которым мы встретились через два дня… В нашем автобусе никто его не помнит, они его не знали, Рубежа. Сошлась моя дорога с его на каком-то небольшом отрезке, а дальше потянулась только моя, а его оборвалась. Наверное же, и кроме нас с Глашей его помнит кто-то, где-то (семья у него была), но все равно такое чувство, что из живущих только я да Глаша знаем, что он был, и пока мы его удерживаем в себе, это правда, что он был.
Странно, что людей, которые сейчас в автобусе, я воспринимаю как посредников, через них я общаюсь, как с живыми, с теми Костей, Зуенком, Ведмедем, которых знал, видел много лет назад. И Костя-начштаба, вот этот шумный, смеющийся, и Косач, молчащий всю дорогу, и Столетов – все они как бы прямо оттуда, из двадцатипятилетней дали. Странно, когда память вот так вдруг обретает плоть, реальные голоса… Зрячие должны напрягаться, чтобы в сегодняшнем увидеть того, кто больше четверти века назад был Косачем, Зуенком, Столетовым, Костей-начштаба. А мне и усилия не нужно, только тех, прежних, я и вижу. А сегодняшние лишь подтверждают, что все – правда.
… Глаша сидит на корточках, привалившись к дереву. После сумасшедшего бега на щеках ее пятнами растекаются бледность и румянец, а в немигающих глазах темный испуг. Я стою над ней, сушу на своем лице пощипывающий пот и смотрю сразу во все стороны. Глаша показывает, что стреляют везде, кругом.
Да, в лагерь нам не проскочить. Да и нет там никого, раз такое творится.
– Удивится Косач, где ты, – говорю я.
Глаша потянула книзу серенький свитер, сняла с носка сапога березовый лист, рассматривает.
– Осень уже, – сообщили ее губы и посмотревшие на меня глаза.
И я взял у нее пожелтевший, но еще мягкий, живой лист, точно она дело говорит и нам сейчас это важно.
Если началась действительно блокада, значит, все это – стрельба, самолеты – сейчас уже и там, где мама, сестрички. Хорошо, если догадаются сразу уйти на «острова», в глубь болота. Деревня наша там и в сорок первом и в сорок втором пряталась.
Глаша смотрит на меня и соглашается с тем, что я думаю. Фу, да я уже вслух думаю! Разговариваю в голос, не замечая того. Продолжил как ни в чем не бывало:
– Там, в своем лесу, я на немцах кататься буду как только захочу. Там не достанут. А схлынет, доставлю тебя…
Я не произнес: «Косачу». Ее взгляд мешает мне произносить это имя. Раньше помогал, требовал, а теперь почему-то мешает.
Мы снова идем через лес, и снова Глаша показывает, где стрельба гуще. Свернули к болотцу, зеленому, с полегшей длинной травой. Я набрал в пилотку воды и, подняв над лицом, ловлю губами солоноватую от пота струйку. Глаша пьет с ладошки.
– Есть хочешь, – догадался я. Она быстро кивнула и глянула по-детски, точно я сейчас достану с дерева и дам ей. Черт, даже сумку свою в лагере оставил, хорошо еще, что винтовка да граната при мне. А Глаша совсем налегке, хоть бы для виду Косач дал ей какой-нибудь карабин. Теперь пришагаем к моим односельчанам, а там решат, что я просто с девушкой, – невесту привел, здравствуйте!.. Убьют немцы, подойдут и будут рассматривать нас на земле.
Я отнял у Глаши свой локоть, для этого сделал вид, что мне надо вернуться на просеку, посмотреть.
… Автобус наш дремлет. Глаша, наклонившись, пошарила в сумке, подала Сереже бутылку с водой. Сказала строго:
– Не облейся.
Теперь смотрит в окошко. Я ощущаю ее несвободное дыхание, и кажется, что вижу синий мазок скошенных глаз, который и сзади Косачу, наверное, виден. Косач за спиной у нас. Мы едем, чтобы встретиться. На встречу с самими собой едем.
А ведь вы, Флориан Петрович, обязаны партизану Флере, самонадеянному, сердитому, глухому, в обвислых немецких обносках, обязаны тем, что вышли сюда, с Глашей вышли вот сюда… Порой я совсем со стороны вижу того Флеру – себя восемнадцатилетнего. Точно не во мне он, а там остался. И порой кажется, что мы с Глашей все идем за ним, подчиняясь его сердитым знакам, а он, загребая листья, иглицу тяжелыми сапогами, то пропадает за деревьями, то появляется из-за них неширокой, худой спиной. А ему еще про мать надо думать, про сестричек. Несет, прижав локтем, свою жалкую, черную от нестираемой могильной сырости винтовочку, будто она и в самом деле всем нам оборона.
… И тут мы увидели людей. Сразу заметно было, что это убежавшая в лес деревня и именно сегодня, может быть, два часа назад это случилось. Ни шалашей, ни ям, ни обжитых деревьев, на которых были бы развешаны одежки, тряпки. Люди как разбежались, а потом как собрались, сбились в кучу, гак и толпятся, застыли, глядя в одну сторону: там догорает их деревня. Самих хат не видно, а только рвутся из-за высокого поля в небо разные по грузности и цвету дымы, еще не соединившись в сплошную стену пожара. Сначала люди, все как один, повернулись в нашу сторону, дернулись, готовые снова сорваться, бежать, но вид наш сразу успокоил их. Только женщина в белой чистой кофте, выделяющейся среди заношенного старья, бросилась к нам. что-то причитает, кричит сердитое, показывая на мою винтовку чугунком, который зачем-то держит в руке.
Мы постояли с Глашей, как бы дожидаясь, чтобы у людей пропал к нам интерес, а потом тихонько пошли. Вдоль опушки. Не хотелось терять ее, отвоеванную у страха, снова углубляться в лес, брести вслепую. Нам еще поле – километра три открытых – пересечь надо, прежде чем попадем в «мой» лес.