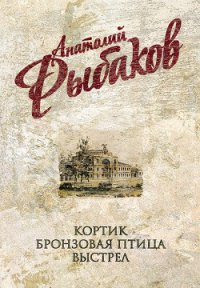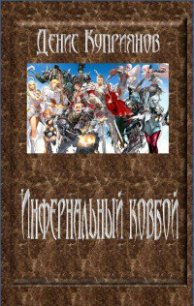Встань и иди - Нагибин Юрий Маркович (книга регистрации .txt) 📗
Чтобы не утратить Сокольники и Чистые пруды сестер К. и счастливую свою юность, отец выбрал Бакшеево.
В Бакшееве он быстро пошел в гору. Приехав на должность рядового экономиста, он уже через год был начальником планово-экономического отдела Торфоуправления. Он обладал громадной, не тронутой до сих пор трудоспособностью, ясным и быстрым умом, скромным честолюбием, и работа его захватила.
В Бакшееве произошло с отцом еще одно неожиданное превращение: он стал "энтузиастом" в том высоком смысле, каким исполнено было это определение в пору подъема и чаяний второй пятилетки. К своей вере он пришел не умозрительно, как иные, он "вработался" в нее, впервые оказался причастным к настоящему, горячему делу. Этому способствовали беззлобие, интеллигентская жертвенность и презрение к капитализму - плод юношеского увлечения марксистской философией.
За пять лет, проведенных отцом в Бакшееве, мы виделись не часто, но регулярно. Он работал без выходных, а потом брал сразу три-четыре дня "отгула" и приезжал в Москву. Эти дни были для меня светлым праздником. Разрушительное, бродяжье начало отчима выдуло всякий быт из нашей жизни, всякий намек на уют и душевный покой. А я был тогда очень бытовым человеком, и меня радовало, что с приездом отца каждодневность приобретала тот оттенок торжественнос-ти, которая украшает жизнь настоящих семей; что завтрак, обед и ужин становились ритуалом, что в простейшие вещи - будь то послеобеденный отдых, прогулка, посещение кафе, отход ко сну - вкладывался вкус.
Отец приезжал утром, и тут же, словно по мановению, возникала большая, горячая, пышная лепешка (почему-то с тех пор эти лепешки навсегда исчезли из моей жизни), громадный, нежный омлет с розовыми крапинками мелко наструганной ветчины, кофе со сливками. Мы садились к столу, и мама объявляла, что сегодня я не пойду в школу.
В этом была вторая огромная радость отцовых приездов. Глубокая, страстная, мрачная ненависть к школе была едва ли не самым мощным из всех изведанных мною чувств. Как бы тоже увлечением, но наизнанку. Я бесконечно изощрялся, чтобы пропустить школьные занятия, я буквально изнемогал в этой вечной борьбе со школой. Приезд отца освобождал меня на какое-то время от этой борьбы, я получал задаром то, что стоило мне обычно многих мук и претивших мне хитростей.
Вместо школы я отправлялся с отцом в Музей изящных искусств. В первый раз мы попали туда случайно, но затем эти посещения стали для меня необходимостью. Музей со всем, что его наполняло, переносил меня в мир, бесконечно далекий от грубого мира школы. Форнарина с ее дивными бараньими глазами не могла существовать в одном пространственном измерении с ненавистной Калерией Викторовной, нашей классной руководительницей; пейзажи Коро и Рейсдаля - с пейзажем Чистых прудов, где находилась моя школа. Священная тишина залов словно навсегда исключала безобразный хаос школьных перемен, а печальный покой Ватто - ту оскорбительную тревогу, всегдашнюю готовность к оскорблениям и унижениям, в какой держала меня школа. Тогда я не понимал этого так, как понимаю сейчас. Я думал, что обожаю живопись, на деле же ненавидел школу.
Едва ли отец получал большое удовольствие от этих походов. Он был равнодушен к живописи, к тому же быстро уставал. Тем не менее он всегда предлагал мне проделать обратный путь пешком, если не до самого дома, то хотя бы до Театральной площади. Мы шагали московскими улицами, у отца делалось счастливое лицо. Зимой, летом, в осеннюю слякоть или в весеннюю хлябь он всегда радовался Москве, всегда находил для нее нежное слово. То и дело отвечал он на приветствия и сам приветствовал знакомых, от "некогда очень красивой женщины" и до старого парикмахера, державшего для отца в прошлом отдельный прибор...
Меж тем приближался незабываемый тысяча девятьсот тридцать седьмой год.
У многих народов существует сказание о маленьком острове, населенном небольшим добрым народом, над которым тяготеет страшное проклятье: что ни год, жители острова должны отдавать стоглавому чудищу красивейшую из своих девушек. Сходное проклятье тяготело над маленькой нашей семьей. Каждая очередная "кампания" требовала от нас кого-либо в жертву. Еще не занялась заря 37-го года, а уже посадили отчима: он стал чем-то вроде Иоанна Предтечи ежовщины.
И вновь, будто посланцы далекого детства, зазвучали в нашем доме слова: "Лубянка", "передача", "свидание" - последнее с добавлением: "не дают".
Отец удвоил свою заботу о нас, присылал нам почти всю свою заработную плату, премиальные, отпускные, и непонятно, на что жил сам. Он стал чаще приезжать к нам, но весной, когда начался квартальный отчет, не смог приехать даже ко дню моего рождения. Он только прислал письмо и денежный подарок. Тем нетерпеливее ждали мы его к майским праздникам. 30 апреля пришлось на воскресенье, Дашура спозаранку изжарила лепешку и приготовила яйца для омлета, но отец не приехал.
Поезд из Шатуры приходит в восемь тридцать утра, от Казанского вокзала до дома не более получаса езды. Наутро первого мая мама, папин брат Боря и я с девяти часов стояли на балконе, поджидая отца, который должен был вот-вот появиться из-за угла Телеграфного переулка. Но вот уже десять часов, а его все нет. Мы не на шутку встревожились. Наконец я увидел вдалеке знакомое коричневое кожаное пальто и серую кепку.
- Вон он! - вскричал я.
- Не говори глупостей! - резко одернул меня дядя Боря.
Зрение у меня было куда острее, чем у дяди Бори, почему же от его резкого окрика я сразу поверил в свою ошибку? Кожаное пальто и серая кепка приблизились и обернулись незнакомым, но удивительно похожим на отца человеком. Тот же рост, та же походка, те же широкие плечи, спина, ну совсем бы чуть-чуть, и это был бы отец. Сколько лет прошло, а до сих пор владеет мною странное и, при всей его нелепости, неистребимое чувство вины за то, что человек этот не оказался отцом. Немного больше веры, готовности к чуду, какое-то внутреннее усилие, и это был бы отец. Но я дал сбить себя с толку, проявил малодушие, слабость, не дотянул на волос и выпустил из рук судьбу дорогого человека.