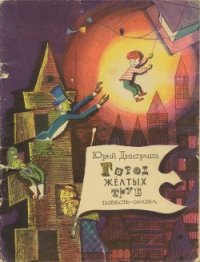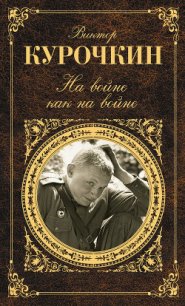Урод - Курочкин Виктор Александрович (читаемые книги читать txt) 📗
– Видишь, написал какой диалог! Даже такой талантливый актер не может осилить! – Режиссер схватил себя за волосы: – Какой же я дурак, что связался с ультрасовременной темой! Снимал бы Гамлетов с Макбетами!
Постонав, посетовав на свою печальную судьбу, Гостилицын грустно посмотрел на Отелкова:
– Что же мы будем делать-то, Иван Алексеевич? Может, эту сцену вымараем? Согласен? Я тоже бы не прочь, да боюсь, что автор не позволит.
Ничего другого не оставалось, как применить наивернейший и простейший способ режиссерского показа. Что Гостилицын и сделал. Он вошел и сказал: «Здравствуйте, товарищ директор». Фраза прозвучала естественно и просто. Отелков старался вложить в нее и значимость, и смысл. Режиссер же не придал ей никакого значения и произнес фразу как бы между прочим. И в этом-то заключался весь секрет. И всем стало ясно, что профессор пришел к директору не с целью поприветствовать, а по какому-то важному делу.
Иван Алексеевич закрыл руками лицо. Стыд жег ему уши. От обиды и злости не осталось и следа. «Какая же я бездарь и ничтожество! – думал он. – Надо сейчас же отказаться от роли». И он наверняка бы отказался, но в эту минуту Гостилицын спросил:
– Понял, как надо?
Иван Алексеевич машинально кивнул головой.
– Повторим, – приказал режиссер и подал команду: – Мотор!
Иван Алексеевич повторил, и, кажется, неплохо. По крайней мере Гостилицын сказал:
– Ладно, сойдет!
На этом и закончился первый съемочный день.
Став артистом, Урод не заважничал. Его теперешнее положение и то внимание, которое ему оказывали, другой собаке наверняка свернули бы мозги набекрень. Однако порода, незаурядный ум удерживали боксера от дешевого зазнайства и легкомысленных поступков, на которые так падки молодые артисты. Кроме того, каким-то собачьим чутьем Урод понял, что он не какойнибудь рядовой пес, а исключительный, одаренный, и поэтому держал себя, как положено большим талантам, – скромно и просто.
О необыкновенных способностях Урода теперь говорили все, начиная с Серафимы А-нисимовны, самого Отелкова и кончая главным богом на студии режиссером Гостилицыным. Этот высоченный бог с огромными волосатыми руками внушал Уроду и страх, и уважение. И он старался изо всех сил угождать ему.
Кроме всех прочих достоинств Урод обладал философским складом ума и отлично понимал, что теперешнее его положение – явление временное, похожее чемто на необыкновенный сон. А когда он в один прекрасный день проснется, ничего этого не будет: не будет огромных чудовищ юпитеров, от света которых слезятся глаза, не будет фанерных стен, от которых нестерпимо воняет краской, не будет этих блестящих ракет, куда ему надо раз по десять то залезать, то вылезать, не будет огромного кирпичного сарая, называемого павильоном, в котором перемешались все мерзкие запахи, не будет веселых артистов, доброй красивой ассистентки Зоеньки, у которой в кармане всегда для него припасен какой-нибудь вкусный кусочек, не будет и пожарника в медном колпаке, который очень любит его гладить и жалостливо причитать: «Эк тебя изуродовали, бедняга!…» – все пропадет. Опять останется он с хозяином и будет, как прежде, лежать по вечерам голодный на крыльце и дожидаться, когда хозяин приедет из ресторана. А пока используй благоприятное время! Ешь как можно больше, обжирайся, жирей!
Вот так расценивал Урод столь неожиданно свалившееся на него счастье. Хотя трудно сказать, было ли это таким уж большим счастьем. Да и вообще, что такое счастье?
Работа Уроду поднадоела, хоть он и снимался всего лишь вторую неделю. Да и есть почему-то почти не хотелось. В первые дни он съедал неимоверное число мясных пирожков. Его кормила вся съемочная группа. Теперь Урод на пирожки смотреть не мог и глотал их, как горькие пилюли. Вероятно, по доброте своей душевной ему никого не хотелось обидеть.
Прошла неделя, другая, и Урод загрустил. Должность артиста, в первые дни такая необычная и веселая, теперь выглядела и обычной, и довольно-таки скучной. А дома совсем стало жить невмоготу. Если раньше Урод был предоставлен самому себе и тосковал по ласке, то теперь всего было в избытке: и еды, и ласки, и особенно внимания. С него не спускали глаз. Его окружили такой мелочной опекой, что Урод, привыкший к нужде и считавший наивысшим благом на свете кусок залежалой печенки, стал серьезно задумываться над жизнью, над такими вечными вопросами, как свобода и счастье.
Серафима Анисимовна, видимо, решила поселиться в их доме насовсем и так крепко взялась за внешнее и моральное усовершенствование Урода, что будь на его месте другая собака, менее талантливая, она наверняка сбежала бы. Серафима Анисимовна Недощекина как будто ждала, когда Урод станет артистом, чтобы утвердить свою власть над ним. Он жил, как солдат в казарме. У него были и подъем и физзарядка, туалет, завтрак, работа, обед, учеба, самоподготовка, ужин, вечерняя прогулка, отбой – абсолютно все, кроме увольнения.
Но тирания Серафимы по сравнению с репетициями, которыми ежедневно мучил Урода Отелков, были сущей чепухой. Как только хозяин грозно произносил слово «репетиция», Урода бросало и в жар, и в холод. Это означало, что надо стучать по стене лапой столько раз, сколько пальцев покажет хозяин, носить в зубах хлеб с маслом, книги и прочие вещи, залезать на стул и, подняв вверх морду, выть по-волчьи. Отелков учил его плакать, смеяться, выражать неутешное горе и безумную радость, сердиться, негодовать, ругаться, драться и даже воровать. Если Урод ошибался или выполнял не то, что требуют, шеф ехидно спрашивал: «Что, таланта не хватает?» или же кричал: «Назад, бездарь!», «Повторить, бездарь!», «Отставить, бездарь!» – и гонял Урода до тех пор, пока у того от усталости не вываливался язык. А после на студии все восхищались врожденным талантом Урода. Хвала и честь давно уже ему опротивели. Теперь он на собственной шкуре познал, какой ценой достается этот пресловутый талант.
В конце концов Урод пришел к выводу, что нельзя желать того, чего не знаешь, а счастья вообще, видимо, в этом мире не существует.
Если Урод совершенно разочаровался в жизни и стал законченным пессимистом, то Отелков еще не терял надежд. Правда, в отличие от Урода, который страдал от успехов, Иван Алексеевич страдал от неудач. Что б он ни делал, как ни старался, а угодить режиссеру не мог. Мало-помалу Иван Алексеевич и с этим смирился. Гостилицын вообще всеми был недоволен. И всех, как Ивана Алексеевича, гонял, ругал и тиранил. Отелкова, впрочем как и всех, поддерживала одна мысль: «Черт с ним! Пусть хоть кожу сдернет, лишь бы картина получилась и прозвучала». В том, что она прозвучит, никто не сомневался, так как все, что ни делал Гостилицын, все звучало и откликалось многоголосым эхом.
Эту зиму Иван Алексеевич работал, как никогда. На него свалились сразу две роли: профессора и собаки. Гостилицын незаметно переложил на него всю дрессировку Урода. Сцены с собакой он заставлял Отелкова репетировать на дому; это не входило в его обязанности, и он мог бы отказаться от таких заданий, но Иван Алексеевич ни в чем не мог противоречить Гостилицыну.
Дрессируя Урода, Иван Алексеевич проявлял чудеса, добивался, казалось, невозможного. Гостилицын, видимо, это оценил, по крайней мере, его отношение к Отелкову резко изменилось. Теперь он не кричал, не заставлял десятки раз переделывать одну и ту же сцену, хотя по-прежнему морщился и махал рукой: «Ладно, сойдет!» Иван Алексеевич догадывался, что Гостилицын терпит его только из-за собаки. Но если Отелков лишь догадывался, то вся труппа была твердо в этом убеждена.
Гостилицын под маской грубости скрывал кристальную порядочность. Он добивался своего всеми способами. Но если видел, что из артиста выжать ничего невозможно, сразу же изменял свою грубость на мягкость и вежливость. Вот этой-то мягкости и вежливости пуще всего боялись артисты. Если режиссер кричит, ругается – не страшно. Но как только перешел на почтительное «вы», «пожалуйста», «прошу вас», – это уже конец. Артист в его глазах – ничто, непроходимая серость, от него нечего ждать.