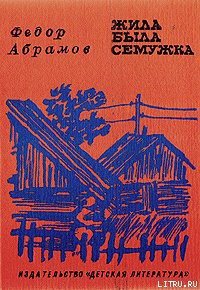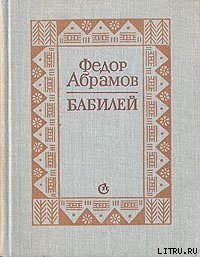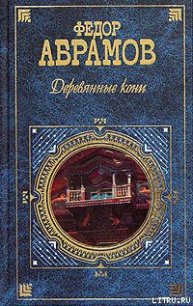Братья и сестры - Абрамов Федор Александрович (книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Подъехав к полю, Степан Андреянович торопливо распряг коня, наладил плуг. Легкое волнение охватило его, когда он взялся за поручни. Считай, двенадцать лет не хожено в борозде — свой огородишко не в счет.
Нет, не забывается то, что с малых лет заучено ногами. Мягко шипит земля, отворачиваемая лемехом. Качнет поручни, когда плуг наскочит на камень, и снова вспарывается затвердевшая сверху полевина, потрескивают корневища прошлогодней травы, разрезаемые железом… Вскоре у него начала слегка кружиться голова. Почва под ногами тихо зыбилась и покачивалась. «С непривычки это, духу земляного нахлебался». Когда ему стало жарко, он расстегнул ворот ватного пиджака. Холодный ветерок приятно защекотал по напотевшей шее, зашарил за пазухой.
На одном из поворотов, занося плуг, Степан Андреянович вдруг увидел на промежке большой серый камень, наполовину обросший ивняком, и, остановившись, невольно наклонился.
Господи! Да ведь это его старое поле… И этот серый камень!.. Только тогда еще не было ивняка вокруг, да и Васе, должно быть, шел тринадцатый годок…
Августовской жарынью полыхнуло на него… Степан Андреянович запахивал последний клин под рожь. Над головой погромыхивало, урчало, — душно, сил нет. Обливаясь потом, он хлещет лошаденку, пехом пихает плуг. Ох, успеть бы под дождь кинуть ржицу. И тут на завороте, у камня, как назло, подвернулась нога. Кое-как доковылял он до телеги, поглядел на сына, перебиравшего в мешке зерно: «Ну, сынок, не судьба, видно. Вези отца домой…» — «Зачем домой? Я пахать буду», — сказал Вася. «Что ты, дитятко? В твои-то годы?..» — горько усмехнулся Степан Андреянович. Но Вася уже схватился за поручни, дернул вожжой и, налегая всем своим худеньким телом на плуг, пошел, пошел…
И вот уже час, два Степан Андреянович лежит у закраины поля. В воздухе душно, солнце немилосердно припекает, а белая головенка сына все качается и качается над черной пашней… А потом… потом Вася накинул на плечо лукошко и пошел разбрасывать зерна. Издали не сразу и поймешь, кто кого несет, — то ли Вася лукошко, то ли лукошко Васю. Степан Андреянович смотрел на сына, плакал от радости и шептал: «Хозяин! Хозяин вырос!»
Домой они вернулись затемно. Дождь лил как из ушата. Но Вася ничего не слышал и не чувствовал. Всю дорогу он беспробудно спал, уткнувшись головой в колени отца. Мать так, спящим, и внесла сына на руках в избу… Славная ржица уродилась с того посева!..
Конь, всхрапывая, потянулся к старой траве на промежке. Плуг опрокинулся, и лемех со скрежетом черканул по боковине камня, увлекая за собой с корнем вырванные побеги ивняка. Степан Андреянович, словно очнувшись, поднял голову, поглядел кругом. Все так. То же поле, те же кусты по бокам. Только Васи нет…
Потом он опять шагал за плугом. Холодная земляная сырость дышала ему в лицо. Скрипело колесо плуга. И мысли, тоскливые и однообразные, как скрип колеса, сжимали ему сердце…
Во время кормежки лошадей к нему подошел Трофим. Молча, не разговаривая, сел в затишье к телеге, поставил меж ног берестяную коробку и с остервенением накинулся на еду. Степан Андреянович лег сбоку Трофима, устало прикрыл глаза.
— Чего не ешь? Раз смерть обошла — живи.
Он ничего не ответил. Перед глазами, едва он лег на промежек, опять заколыхалась черная, лоснящаяся на солнце пашня, белая голова сына выплыла из голубого марева…
— Ну как, старики? Не сыро? — Это голос председательницы.
Степан Андреянович нехотя повернулся, сел.
— А в Оськиной навине сыровато. Я Софрона на малые холмы перевела. Анфиса вопросительно взглянула на Степана Андреяновича: «Не обижаешься?»
— Раз сыро — чего же…
— Смотрю, не разучился, сват. — Улыбаясь, она прикинула на глаз вспаханный участок.
— Эта наука такая, что и на том свете помнить будешь…
— А я ведь к вам по делу, — сказала Анфиса, присаживаясь. — Бригаду вашу разорять пришла. Хочу двух пахарей к Насте перевести. Замучилась девка. Вдвоем с Василисой, старухой, — некому плуг наладить… Кого бы ты, сват, не пожалел?
Степан Андреянович безучастно пожал плечами: бери, мол, кого надо, не все ли равно.
Морщины собрались на лбу Анфисы. И все вот так: ничем не разворошишь. Бригаду стала предлагать, боялась — отказываться будет. Нет, не отказался. И что ни скажешь, делает, а сам — как подмененный ходит. «Может, лучше бы не трогать его… — ворохнулась у нее мысль. — Да где же люди-то?»
И она опять обратилась к Степану Андреяновичу:
— Ну дак кого, сват?
— Не знаю…
— Чего тут знать? — поддержал Анфису Трофим, на минуту отрываясь от еды. Дело говорит председатель.
— Может, Дарью да Трофима Михайловича? — подсказала Анфиса.
Трофим рывком вскинул голову:
— Это почто меня? Что я, бельмо в глазу? Век в одной бригаде, а теперь в чужую…
— Да ведь кого-то надо! Ты не возражаешь, сват?
— Раз надо, дак надо…
— Ах так! — Трофим с неожиданной легкостью вскочил на ноги. — Меня? Ну подожди! Вспомнишь Трофима Лобанова!
Он торопливо побросал в берестяную коробку остатки еды и, упрямо, по-бычьи нагнув вперед голову, затопал к своей лошади. Степан Андреянович тоже пошел к своему коню.
Анфиса горько покачала головой. Господи, и так-то все рвется, на живую нитку сметано, а тут еще каждый норовит характер показать…
Кругом лежали серые невспаханные поля, разделенные перелесками, ручьями и холминами. И на этих полях лишь кое-где копошились старики и старухи да надрывались многодетные бабенки. Да что это будет? Когда все это перепашем?
Холодное, белесое, точно вылуженное, небо не предвещало тепла. Ни единой травинки не зеленело под этим небом. И она знала, что сегодня ночью, как и вчера, и позавчера, поднятая ревом голодной скотины, она опять будет выбегать на улицу и с напрасной надеждой вглядываться в огород. В белом омуте наступающих белых ночей она увидит все ту же голую, мертвую землю.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Митенька Малышня, проводив Лукашина до конюшни, стал объяснять:
— Вон прясло-то стоит, видите? — Он указал за болото, на широкий холм. Это Настасьи Филипповны поля. Там и председатель. Сама пашет…
— А Настасья Филипповна? Новый бригадир?
— Как же, бригадир! Филиппа Семеновича дочь. У нас все больше Настькой да Настенькой кличут. Комсомолом колхозным командует.
— А второй бригадир тоже назначен?
— Назначен. Степан Андреянович.
У Лукашина отлегло от сердца. Это была неплохая весть для начала.
Семь дней он не знал, что творится в Пекашине. Да и до Пекашина ли ему было? Над колхозом «Рассвет» разразилась небывалая катастрофа. Во время ледохода ниже деревни образовался затор, и вода хлынула на деревню…
Люди трое суток отсиживались на крышах домов, колхозный скот погиб — во всей деревне осталось несколько коров, которых успели поднять на повети.
Он пришел в Водяны уже после того, как вода спала. Но и то, что он увидел, заставило содрогнуться. На улицах заломы бревен и досок, хлевы и бани сворочены со своих мест, ветер свищет в черных рамах без стекол… Люди, молчаливые, отупелые, грелись у костров, разложенных прямо под окнами, варили в чугунах мясо, вырубленное из все еще не обсохших коровьих туш.
Пять дней он почти не смыкал глаз: бегал, ездил по соседним деревням, добывал хлеб, доставал необходимую утварь, сгонял народ на помощь. В соседних колхозах рушились планы посевной. Председатели вставали на дыбы. Приходилось упрашивать, стыдить, кричать, чуть ли не драться…
Как ни был угнетен Лукашин нахлынувшими воспоминаниями, но вид мирного поля с пахарями взволновал его. Все было родное, знакомое с детства — и эти неторопливые лошаденки, мотающие мохнатыми головами, и скрип плужного колеса, и запах пресной земли, смешавшийся с запахом пережженного навоза.
На поле пахали четыре пахаря — три женщины и один мешковатый, приземистый мужчина, в котором он без труда узнал Трофима Лобанова. Узнал он и свою приметную хозяйку, — она на другом конце поля разбрасывала чадивший навоз. А вот которая из остальных женщин председатель, угадать было нелегко. Однако ему не пришлось блуждать по полю. Первым пахарем, к которому он подошел, оказалась сама Минина. Ни одна работа, пожалуй, не налагает на человека такого резкого отпечатка, как весенняя пахота. Лицо Анфисы, совершенно бледное еще неделю назад, потемнело, осунулось. Черные, глубоко запавшие глаза блестели сухим режущим блеском. И голос, когда она заговорила, тоже показался ему незнакомым — простуженный, с хрипотцой.